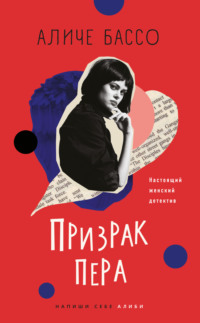
Призрак пера
Проклятье. Во время поездок в издательство я себя не узнаю.
С другой стороны, все остальное время я похожа на Лисбет Саландер[5]. Именно так. Ничего хорошего, более того, даже не я это сказала. Так говорят все. Я одеваюсь и крашусь в подобном стиле с шестнадцати лет, а потом раз – и в один прекрасный день выходит первая часть «Миллениума», и с тех пор для всех я становлюсь «той, в странной одежде, как у Лисбет Саландер». (Ну кроме пирсинга, потому что мне никогда не нравилась идея протыкать кожу, и не с такой радикальной стрижкой, но вы меня поняли). Вот почему я говорю «ничего хорошего», хотя сравнение само по себе ничего. Как-то один фанат комиксов сказал, что я напоминаю ему Смерть, сестру Песочного человека из книги Нила Геймана. Другой парень, однажды приставший ко мне в кафе, назвал меня Уэнсдей Аддамс[6], но большинство теперь сразу выбирают Лисбет и считают, что делают мне комплимент. Будто я нарочно копирую стиль, а не была такой всегда. И было бы ужасно неприятно, если бы для меня это что-то значило, а тут можно только смириться. В конце концов, в мире много таких как мы, неудачных копий, бета-версий. И я не могла не попасть в их компанию, потому что, очевидно, такова моя судьба – быть чьим-то двойником.
Даже если я выгляжу как персонаж книги, то все равно не своей.
Трамвай подъезжает к моей остановке, практически рядом с центром, ближе к округу Торино Норд, за проспектом Королевы Маргариты. Довольно угнетающий район, но не совсем мерзкий. Подхожу к дверям и готовлюсь выйти. Передо мной, уже на первой ступеньке, стоят две девочки, в которых я узнаю пятнадцатилетнюю дочку соседки этажом выше, Моргану, и ее лучшую подругу, чьего имени я не помню (только что оно какое-то самое простое, что мне ничем не поможет).
Моргана мне нравится. И это не что-то само собой разумеющееся, потому что тех, кто мне нравится, очень мало. Но она одна из них. Маленькая темноволосая болтушка со склонностью к мрачности и черному юмору. Только в пятнадцать можно искренне быть одновременно и мрачной, и разговорчивой. Говорит Моргана о школе. Как и всегда. Она вроде всезнайки, но с готическим оттенком. Она странная. И очень напоминает мне себя в ее возрасте. Наверное, поэтому девочка мне и нравится, хотя на самом деле стоило бы забеспокоиться, встряхнуть Моргану и велеть перестать – ради ее же собственного блага.
– Я не знаю, что написать, – жалуется она Лауре (точно, вот как зовут ее подружку. Конечно, гораздо проще Морганы).
– Нашла проблему! Ты же всегда знаешь, что сказать, обо всем, – отвечает Лаура. В голосе звучит подначка, но добродушная.
– В этот раз нет, клянусь! Ничего, кроме банальностей, в голову не лезет… Меня тошнит от самой себя, стоит только подумать. Чувствую себя подлизой, поддакивающей учительнице!
– А что тут плохого? Ведь она именно этого и ждет. Скажи то, что ей хочется услышать, то есть то, что она рассказала на уроке, и хватит.
Лаура права. Это знает она сама, знаю слышащая их я, знает и Моргана. Эх, малышка Моргана. Если бы все были как ты, предпочитали бы молчать, а не писать банальности, я бы осталась без работы.
– И все же мне придется что-то придумать, потому что ясно как день, что сочинение должно быть о том моменте с матерью Сесилии, – вздыхает она.
Ах вот оно что. Я даже удивляюсь. Ведь тогда все так легко! Более того, я почти поражаюсь тебе, Моргана, – как же ты не можешь ничего придумать про тот известнейший момент из книги «Обрученные»[7], где маленькая Сесилия умирает от чумы, а ее мать, что тоже при смерти, с достоинством приносит ее к повозке с трупами и просит перевозчиков бережно отнестись к девочке.
Лаура качает головой. Она пока не понимает, насколько и зачем Моргана все усложняет. Наверное, Лаура тоже хорошо учится в школе, но у нее это – всего лишь безразличное следование требованиям и выученные наизусть уроки. Она наверняка оправдывает ожидания учителей. Подобный практичный подход не может не восхищать, а в пятнадцать лет это, должно быть, врожденное. Снимаю шляпу.
– Нет, я серьезно! Ну, знаешь, достоинство матери, сострадание… Весь класс как раз так и напишет. А это ужасно скучно! – продолжает Моргана, всплеснув руками (еще по-детски тоненькими, но уже с фиолетовыми ногтями в три сантиметра).
– Напиши, что смерть – полный отстой, – произношу я, только потом осознав, что меня, вообще-то, никто не спрашивал.
Но, похоже, день сегодня такой, что я везде встреваю невпопад.
К счастью, Моргана с Лаурой даже отдаленно не похожи на придурка Мантенью. Они оборачиваются ко мне, и тут трамвай останавливается, двери открываются, и мы выходим, сначала они, потом я. Но на тротуаре они тут же останавливаются и ждут меня, а потом пристраиваются по обе стороны и идут рядом, будто собираются продолжить беседу.
Хороший знак. Если бы мое вмешательство им не понравилось, они спокойно могли бы притвориться, что ничего не слышали, и быстро уйти.
К слову, если бы у Мантеньи была возможность, он бы именно так сегодня и сделал.
– Что смерть – что? – спрашивает Моргана, хотя, судя по ее виду, она прекрасно расслышала с первого раза.
– Полный отстой. Так и напиши, без экивоков. Что тогда, что сейчас, потому что она всегда одинаковая и никогда не изменится. Вот почему этот отрывок волнует нас до сих пор. И к дьяволу достоинство матери, сочувствие и прочую ерунду. Напиши, что прекрасно знаешь, что именно такие рассуждения первыми приходят на ум, но тебе плевать на все эти благодетельные глупости. Ты видишь ситуацию как есть: вот женщина, приятная, образованная, явно хороший человек, видит смерть своей дочери и знает, что тоже умрет. И она ничего не может сделать: нет ни Бога, который должен спасать хороших людей, ни провидения, ни чуда. Все такая чушь, потому что в книге только и говорят, что о Господе, о вере, а невинные хорошие люди мрут как мухи. И знаешь, в чем вся прелесть? Что так не только в книге. Все именно так в мире, в реальной жизни. Было тогда и есть сейчас. Поэтому данный отрывок именно это и значит для всех, кто умеет видеть, не придумывая себе сказок: смерть – отстой, и в конце концов побеждает все равно она, а единственное, что можно сделать, – сохранить капельку достоинства в тот самый неизбежный момент.
Моргана неотрывно смотрит на меня несколько секунд остекленевшим взглядом, будто из-за рвущихся наружу мыслей, которые она пытается сформулировать, энергии на эмоции уже не осталось. Потом она вздыхает и медленно, слог за слогом, выговаривает:
– Это. Самая. Офигенская. Вещь. Которую. Я. Слышала!
Мы стоим на тротуаре перед нашей дверью, и тут она начинает подпрыгивать. Она носит обувь от «Доктора Мартенса»[8], черную, даже с некоторым вкусом расписанную фиолетовым фломастером. Моргана похожа сейчас на астронавтов на Луне, прыгающих, как кролики, в своих гигантских скафандрах.
– Боже мой! Надеюсь, я запомню каждое слово! Это же идеально! Как бы я хотела сама додуматься!
– Ты и додумалась, – сообщаю я, роясь в сумке в поисках ключей.
– Нет, правда, ты действительно будто прочитала мои мысли, рассказала именно то, что я чувствую, хотя я даже сама об этом не знала! – Тут она запинается, боится теперь показаться самоуверенной. Бросает осторожный взгляд на Лауру, но та кивает, потому что знает Моргану достаточно хорошо и не сомневается, что ее подруга сказала правду. Потом смотрит на меня. Я замечаю их молчаливый разговор только краем глаза, потому что по-прежнему ищу ключи, а из-за виски, занявшего всю сумку, судя по всему, еще долго не найду.
– Но как ты узнала?
Наконец-то нащупываю ключи. Дверь захлопывается за нами, и я, нажав на кнопку вызова лифта, в ожидании прислоняюсь к стене, сложив руки на груди и разглядывая Моргану. Похоже, сегодня, кроме встреваний невпопад, также день демонстрации моих практических рабочих навыков.
– Ты всегда носишь черное. Тебе нравится все мрачное, темное, ночное. Я слышу ваши разговоры, и у тебя всегда для всего находится какое-нибудь саркастичное замечание или скептичная шутка.
На лице Морганы застывает потерянное выражение, как у детей, а может, и не только у них, когда говоришь о них, и отчасти им приятно, а отчасти страшно, что их секреты раскроют. Лаура наблюдает за ней и время от времени кивает со знанием дела, будто эхом подтверждая мои слова.
– У тебя замечательное литературное имя, и однажды, как и всем детям, тебе наверняка захотелось узнать его происхождение, и с тех пор ты отчасти отождествляешь себя со своей тезкой-колдуньей. Я бы сказала, что тебе всегда нравилось оправдывать свое имя: ты не любишь всякие сантименты, а когда можешь побыть немножко невыносимой и вредной, чувствуешь себя в своей тарелке. Поэтому, как видишь, подобные размышления, какие привела в пример я, как раз в твоем духе.
Моргана быстро оборачивается к Лауре, а та – какая замечательная штука – дружба в пятнадцать лет! – кивает ей, что безо всяких вариантов означает: «Если ты напишешь такое сочинение, я никому не скажу, потому что для меня это совершенно точно и полностью твои мысли».
Моргана все еще колеблется. Точнее, ее легонько трясет. И я ее понимаю. Она в восторге и от гениальной идеи для своего сочинения, и от того, что я дала ей то, о чем мечтает каждый подросток: собственную уникальную личность. И неплохую.
– А не будет ли это слишком… слишком? – уточняет она, из чистого удовольствия послушать дальше.
– Имеешь в виду, слишком кощунственно? Отличники могут себе позволить интерпретировать тему по-своему, – коротко отвечаю я.
– А откуда ты знаешь, что я отличница?
– По литературе – точно. Утром в лифте ты всегда с книгой.
– Может, я просто учу уроки в последнюю минуту, потому что на школу мне наплевать…
– Ты же читаешь не учебники, а романы, – улыбаюсь я. Мне нравится, как она меня проверяет. – И не те романы, которые преподаватели могут задать всему классу. На днях ты читала Достоевского.
– Но не факт же, что я его поняла!
– А на твоем рюкзаке фраза из «Потерянного рая» Милтона.
– Господи, да ты настоящий Шерлок Холмс! – восклицает она.
Лаура хохочет, но по ее лицу понятно, что все, что я сказала, – правда.
– Профессиональная деформация, – пожимаю плечами я, не углубляясь в тему.
– Ну кем бы ты ни работала, готова спорить, что ты профессионал, – вздыхает Моргана, все еще светясь от радости, а я открываю дверь прибывшего тем временем лифта и запускаю девочек внутрь.
Ты права, малышка Моргана. В своей работе я профессионал.
Я написала лучшую книгу в мире, и никто об этом не знает.
Глава 3. Прямее гитарной струны

Я говорила, что Энрико всегда против моих встреч с теми, за кого я пишу книги. Так и есть. Более или менее. С одним исключением. Где-то полтора года назад мой начальник позвонил мне и впервые попросил приехать на встречу с одним из авторов.
– Но ты же всегда против того, чтобы я встречалась с ними, – возражаю я.
– В этот раз все по-другому.
Почему по-другому? Он не объяснил и повесил трубку.
Приезжаю в издательство и понимаю.
В кабинете Энрико меня ждет какой-то парень, высокий, беспокойный, с трехдневной щетиной, в пиджаке, но без галстука, с художественно уложенными волосами – хотя, может, и нет, потому что, когда череп правильной формы, с пропорциональными висками и лбом, даже если ты просто растрепанный, кажется, что так и задумано. (За время нашей встречи парень будет запускать руку в волосы настолько часто, что нервный тик точно отнесет его к второй категории). Ему, должно быть, тридцать шесть, максимум тридцать восемь лет, красивое лицо, которое отлично бы смотрелось на фото во всю обложку книги. Вообще-то, именно там я его и видела: на обложке одного из самых невероятных бестселлеров, который несколько лет назад собрал почти все литературные премии, романа «Асфальтовый берег» – поражающей своей глубиной истории о семье итальянских иммигрантов в Соединенных Штатах времен Второй мировой войны.
Его зовут Риккардо Ранди, и его знает вся Италия. Точнее, знала пять лет назад.
Театральным жестом Риккардо бросает пухлую папку с бумагами на и так переполненный письменный стол Энрико.
– Вот, – вздыхает он.
Энрико молчит, чтобы Риккардо смог справиться с ситуацией достойно и самостоятельно объяснить, в чем проблема.
– Секретарша на входе, девушка-редактор, показавшая мне дорогу, и проходивший мимо переводчик, который узнал меня и похвалил мою вышедшую пять лет назад книгу, – все они видели, как я вошел сюда с папкой, и обрадовались, решив, что я принес новую рукопись. Они могли так подумать еще и потому, что им известно о моем контракте с издательством, по которому я обязан представить новый роман до конца следующего триместра.
(Эти писатели всегда воображают, что в издательстве только о них и говорят и что все, от главного редактора до дизайнера обложек, лихорадочно следят за сроком сдачи книг).
– А на самом деле… – Риккардо проводит рукой по волосам, первый из бесчисленного множества раз, и открывает папку.
Вытаскивает безумную массу листов и листиков, тетрадных, для принтера, блокнотных, из пачек, желтых, белых, серых, переработанных и глянцевых. Какие-то напечатаны, но тысячей разных шрифтов, другие накорябаны от руки; есть даже несколько заметок, небрежно написанных на полях квитанций. Никогда не видела настолько хаотичной кучи материала, будто графоман и барахольщик объединились, и перед нами результат их совместного творчества.
– Наброски, – сам себе выносит приговор Ранди и неловко улыбается от стыда. – Ничего, кроме беспорядочных шизофренических заметок, настолько бессвязных, что никуда не годятся. Разбросанные образы, описание тут, сценка там, диалог… У меня не получается собрать их воедино, структурировать, ни черта не получается! После «Асфальтового берега» я бросил писать романы, меня попросили делать телевизионные сценарии. Я согласился, думая, что смогу вернуться к прозе когда захочу, по щелчку пальцев. Оказалось даже увлекательно, у меня время от времени брали интервью, звали гостем на шоу… Приятная, насыщенная событиями жизнь, идеальная – и я отвлекся, потерял из виду все остальное. Три года назад Энрико начал беспокоиться, предупреждал, что пора начать работу над вторым «Асфальтовым берегом», или же в издательском деле мое имя начнет забываться, а после и вовсе канет в небытие. Я все понял и начал пробовать. Действительно правда старался. – Он отрывает руку от всклокоченной шевелюры так, будто движение причиняет ему боль, и указывает на появившееся на столе кладбище бумаг. Несколько листов даже спикировали на выложенный мраморной крошкой пол.
– Все, что у меня получилось за три года. Только бестолковые и бессвязные наброски, без истории и вдохновения. Я потерял творческую жилку, это конец. Вот уже три года я притворяюсь, что это не так, не настолько серьезно и вообще поправимо, но вот она, правда: все кончено. У меня больше нет способностей. Поэтому мой единственный шанс, и, поверьте, я бы предпочел умереть, чем опуститься до такого, – мой единственный шанс, как я говорил, – выполнить свои обязательства перед издательством, а также сохранить лицо и свою репутацию.
– Это он о тебе, – поясняет мне Энрико.
Мне почти жалко Ранди. Обычно физическая красота не производит на меня особого впечатления, даже наоборот, раздражает. Но Ранди сейчас не просто смазливый, шикарно одетый парень. Он как потерпевший крушение корабль – одни обломки, а не человек. Некогда красивый и удачливый, теперь он на грани нервного истощения, с кругами под глазами и странным тиком, привычкой ерошить волосы. Я смотрю на него и спрашиваю себя, каково это – иметь все, а потом неожиданно понять, что вот-вот всего лишишься. Хороший вопрос. Его одного хватило бы в качестве завязки. Иногда я искренне удивляюсь, откуда у людей такие трудности с написанием чего бы то ни было. У меня в голове бурлит куча идей, вопросов, отрывков, которые только и ждут, чтобы их превратили в рассказ или роман. Но голова Ранди, похоже, вот уже три года напоминает пустыню, Долину Смерти, поэтому мне его искренне жаль.
– Посмотрим, что я смогу сделать, – говорю я, подняв с пола и выравнивая бумажное кладбище в одну стопку. – Возьму почитать домой. Через неделю сообщу. – С этими словами я иду к выходу из кабинета.
Ранди с Энрико провожают меня взглядами. Энрико смотрит серьезно, но нейтрально. А Ранди не знает, смеяться ему, плакать или все сразу.
Дело в том, что наброски Ранди совсем неплохи. Сидя, скрестив ноги, на своем фиолетовом покрывале с разложенными вокруг листочками, я смотрю на них и думаю, что они даже не так бессвязны, как он считает. Начнем с того, что у всех сцен есть особая атмосфера, общее место действия. Ранди очень молодой (по итальянским меркам) доцент, преподает в Университете Турина американскую литературу. Довольно логично, что его бестселлер пятилетней давности, а теперь и эти сценки крутятся вокруг художественного мира писателей, в чьем творчестве он специалист, кого изучает годами, – то есть американских писателей начала двадцатого века.
На самом деле «Асфальтовый берег» – слегка измененная история его бабушки и дедушки, родившихся в семье итальянских иммигрантов в Америке, а потом вернувшихся в родную Италию. Что также объясняет, почему умение Ранди придумать сюжет стоит под вопросом. Более того, а был ли он вообще на это способен? Если бы его бабушка и дедушка остались там, где родились, если бы ему сама История с большой буквы не подсказала злоключения персонажей, смог бы он создать такую интригующую завязку? Как бы то ни было, эмигрировавших и вернувшихся родственников у Ранди всего двое, и он их уже потратил на первый роман. Так что теперь хочешь не хочешь, а пришлось придумывать сюжет самостоятельно.
Точнее, его должна придумать я.
Целый день и почти весь следующий я только читаю его заметки, разбросанные по моей, к счастью двуспальной, кровати, хотя сплю в ней только я. Чтобы не перекладывать бумаги, перебираюсь на ночь на диван. Следующим утром вновь усаживаюсь, скрестив ноги, на то же самое место, где сидела вчера, там даже вмятина еще осталась, и начинаю с тетрадного листа, где Ранди описывает длинную прямую дорогу через Центральные равнины. Потом перехожу к рекламной листовке, на обратной стороне которой Ранди набросал строки из баллады Вуди Гатри[9] о песчаной буре, и, наконец, к белому листу А4, где двенадцатым кеглем Times New Roman напечатан диалог между двумя неизвестными персонажами – ясно только, что это молодой человек и девушка, и говорят они о голоде и надежде.
Написано хорошо.
А должно стать чем-то особенным.
Чем-то, что попадет прямо в яблочко и побьет все рекорды по кассовым сборам.
Перебираю в голове варианты и, задумавшись, вдруг замечаю на боковой полке библиотеки, где у меня стоят видеодиски, корешок с названием «Форест Гамп».
И решение приходит само собой.
Через четыре дня я звоню Энрико, сказать, что хочу снова встретиться с Ранди. Энрико сопротивляется.
– Да я и так не уверен, правильно ли поступил, позволив вам вообще увидеться, – отнекивается он. – Это он настоял, и я до сих пор не понимаю почему.
Не собираюсь тратить время на объяснения, потому что Энрико не поймет даже, почему плачет сирота, и уж тем более то, что для Ранди признаться вслух в собственном поражении, причем признаться той, которая должна его спасти, было своего рода катарсисом. Есть вещи, которые ты либо понимаешь сразу, на уровне эмоций и ощущений, либо до свидания.
– Энрико, мне плевать на твою паранойю, – отвечаю я. – Мне нужно объяснить ему свою идею, а в письменном виде будет очень долго.
– То есть у тебя появилась идея? – спрашивает он, пытаясь звучать безразлично, но ничего не выходит, потому что только что голос его дрогнул, как сердце влюбленного.
На следующий день мы с Ранди снова в кабинете Энрико. Я вхожу с охапкой листов в руках: там и его заметки, и не только. Ранди уже там, и я вместо приветствия улыбаюсь и шучу, как и всегда, когда чувствую себя не в своей тарелке:
– Нам пора уже перестать встречаться вот так, – говорю я. И поясняю, обернувшись к Энрико: – Почему ты всегда запираешь меня в своем отвратительном кабинете? Знаю-знаю, прячешь меня, как незаконную иммигрантку, но сейчас, к примеру, мне нужен чистый стол, и внизу как раз много пустых конференц-залов.
Вместо ответа Энрико начинает перекладывать на пол, кучка за кучкой, возвышающиеся на его рабочем месте книги.
Ранди краешком глаза наблюдает, как я кладу его бежевую папку в центр постепенно освобождающегося стола и сажусь на место Энрико. Достаю листы и раскладываю их по своему плану: в одну сторону – те сцены, которые пойдут по порядку (какому – я ему скоро объясню), в другую – описания мест и персонажей. А на закуску – огромную схему Соединенных Штатов из листов А3, склеенных скотчем, которую я набросала фломастером, прочертила цветные линии и написала пояснения.
Ранди садится напротив и смотрит на меня.
Я бросаю на него взгляд украдкой и замечаю кое-что. И это мне нравится.
Как я уже говорила, авторы, за которых я пишу книги, меня не любят. Мягко говоря. Они ненавидят признаваться в своем бессилии, предпочитают выдавать все за нежелание или отсутствие возможности. «У меня слишком много дел», «Это только чтобы поддерживать узнаваемость», «Все почти готово, у меня просто нет времени закончить». Но в глубине души они знают: я прикрываю их задницы, спасая от серьезных проблем, и поэтому меня ненавидят. И боятся, потому что я для них соплячка, которой они и гроша бы ломаного не дали, и одновременно непонятное и могущественное существо, способное принимать их облик, что вызывает у них сильную тревогу. Вот почему они пытаются свести наше общение к самому минимуму, а желательно – к нулю (Энрико этому всегда радуется), высылают мне по почте свои черновики, которые уже можно использовать, или идеи, а когда книга готова – читают, при необходимости пишут замечания моему шефу, а он потом передает их мне. Если же случается так, что личная встреча совершенно неизбежна, все отведенное время они смотрят на меня со смесью ненависти и льстивой покорности. Их карьера у меня в руках, я знаю их секрет, и они терпят меня, но ненавидят. Я их неизбежное зло.
(Энрико тоже знает их секрет, но он – беспринципный засранец и с ними на одной стороне, поэтому не считается).
Так вот. Ранди другой. Он смотрит на меня не как на врага. А как на спасающего его ангела.
– Хорошенько подумав, – произношу я и тут же понимаю, что начало ужасное, «excusatio non petita»[10], будто кто-то мог решить, что на самом деле подумала я так себе, что идея уже не кажется мне такой замечательной. Но она отличная. И, без сомнения, уж точно лучше того, что до сегодняшнего дня приходило в голову Ранди. Вздыхаю поглубже и начинаю:
– Вы преподаете в университете американскую литературу. Специализируетесь на прозе первой половины двадцатого века. Читатели «Асфальтового берега» привыкли ассоциировать вас с той атмосферой, тем миром, обстановкой. Когда вы получили премию «Стрега»[11], все снова стали скупать романы авторов того периода: Стейнбека, Фолкнера, Хемингуэя, Фицджеральда… Продажи взлетели, вся читающая Италия не меньше полугода сходила с ума по Америке тех лет. У вас появилось три подражателя, и неплохо продававшихся, хотя по качеству до вашей книги им было далеко. Критики, рецензенты, даже те, что пишут для субботнего журнала, утверждали, что вы напоминаете им Джона Фанте[12] и Уильяма Сарояна[13]. Таким образом, очевидно, что мы дадим читателям то, что они от вас ждут, то, что у вас получается лучше всего: историю, место и время действия которой как раз Америка начала двадцатого века. Но это еще не все.
– Конечно, она же не должна быть жутким плагиатом первой книги, – вклинивается Энрико.
Ранди не отводит от меня глаз, ловя каждое слово. Никогда еще не видела такого буквального воплощения выражения «обратиться в слух».
Подталкиваю карту Соединенных Штатов к нему и тыкаю пальцем примерно в центр, в штат Оклахома.
– Пойдем по порядку. Ваших персонажей зовут Джун и Арт. Они двоюродные брат и сестра со стороны матери. Джун с мамой живут с Артом и его семьей на ранчо посреди пустыни. Пронесшееся торнадо разрушает их дом. На дворе 1938 год. Без дома, в глуши, у них только один шанс: уехать. И герои отправляются в Калифорнию.
– А это уже наглая кража сюжета «Гроздья гнева» Стейнбека, – снова влезает Энрико, который, судя по всему, сегодня играет роль адвоката дьявола, специализирующегося на плагиате. – И напоминаю вам, нет, повторяю, так как об этом уже напомнила ты, Вани, что именно благодаря присутствующему здесь профессору Ранди теперь вся читающая Италия знакома с «Гроздьями гнева», потому что пять лет назад от Америки всех лихорадило…
– Вот только мы не собираемся списывать у Стейнбека его историю. Мы собираемся с ней встретиться. – Я практически шиплю в его сторону – так он мне надоел. Снова оборачиваюсь к Ранди, мысленно попрощавшись с намерениями идти по порядку, потому что, раз у Энрико паршивое настроение, неожиданный поворот просто необходим. – Наши персонажи действительно встретят во время своего путешествия семью Джоуд.

