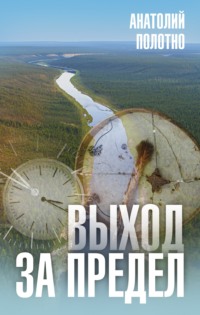
Выход за предел
Мать, услышав такое, сначала окаменела, а потом, указав на дверь, заорала: «Вон из моего дома, у меня больше нет дочери!» – и в рыданиях упала на разобранную сластолюбцами кровать. Глашка покачала головой и с улыбкой на лице сказала, что в таком случае у нее больше нет родителей, взяла паспорт и ушла из дома, попутно прихватив деньги матери из платяного шкафа.
На следующий день, переночевав у подруги, она отправилась в Каменец-Подольский. Этот городок стал известным в Советском Союзе после съемок в нем художественного фильма «Старая крепость». Там, действительно, есть полуразвалившаяся старая крепость. Но главная достопримечательность его – глубокий каньон, разделяющий город, и мост через него – соединяющий. Вот на этот-то мост и пришла наша Глафира с намерением броситься вниз. Но когда посмотрела в пропасть, то так испугалась даже мысли этой, что плюнула туда и пошла искать столовую – проголодалась. В столовой она, съев супчик, макароны с котлетой и выпив чайку, призадумалась: а что же дальше? К ней подошла неопрятная женщина в грязном белом халате и сказала: «Закроваемся мы, освободите помещенья». Глашка подняла на нее глаза и вдруг спросила: «А начальник у вас где?»
– В кабинете оне сидят, а чего надо-то? – ответила и спросила одновременно женщина.
– Поговорить надо, – сделав жалостное лицо, произнесла Глафира. Делать лица она умела виртуозно.
– Иди говори, там она, – сказала женщина и указала на дверь.
Глаша постучалась в дверь и вошла. На нее смотрели глаза уставшей, умной, опрятной пожилой женщины. Глашка умела и это сразу определить.
– Что вы хотели? – спросила начальница.
Глафира сделала несчастное лицо и поведала ей всю свою горемычную жизнь. И отца-то убили на войне, и матушку любимую схоронила, как три дня назад померла от болезни коварной… Одна-одинешенька на всем белом свете осталася. Сирота-сиротушка круглая…. Есть, правда, бабушка, но она сослана еще до войны в Воркуту, вот к ней, кровинушке родимой, и пробирается она: ни крыши над головой, ни гроша в кармане. Начальница выслушала все с печалью в глазах и сказала: «Сегодня здесь переночуешь, на диване, а завтра посмотрим. Если бабы будут пытать, скажешь, что посудомойкой принята». Встала и пошла к выходу: «Закрою я снаружи, такой порядок, еда тут есть, уборная тоже». Сказала и ушла.
Глаша села на предложенный диван, а когда хлопнула наружняя дверь, сделала другое лицо и улыбнулась. Потом встала и пошла на разведку. Нашла на плите котлеты, рядом хлеб, накрытый материей, плотно поужинала и завалилась спать. Подняли ее рано – ни свет ни заря, и это ей не понравилось.
– Приступай к работе, – сказала начальница.
– Тетенька, а можно мне сначала на вокзал сходить, посмотреть, когда идет поезд на Магадан? – спросила Глаша с детским выражением лица.
– Можно, только ты вчера в Воркуту собиралась, – усаживаясь на стул и не глядя на гостью, проговорила тетенька.
– Ой, заспала я, конечно, на Воркуту, – ответила Глаша.
Поднялась, умылась, позавтракала, оправилась и ушла. Больше ее там никто и не видел.
Придя на вокзал, она посмотрела расписание движения поездов. Ближайший отходил в Симферополь. Она подошла к вагону-ресторану, позвала начальника. Начальник оказался тоже начальницей. Рассказала и ей свою душещипательную историю жизни, но уже без бабушки, и та ее тут же определила в посудомойки.
Через двое суток Глафира уже гуляла по Симферополю, выглядывая столовую. А еще через день наслаждалась красивыми видами Ялты и морскими пейзажами, которые раньше видела только на картинках. Про Крым она знала из школы, что это полуостров – всесоюзная здравница. Что там есть Севастополь – город-герой, и Ялта, которая стоит на берегу моря. Что там всегда тепло. Вот ей и захотелось на море, в тепло.
В курортной столовой на набережной она вновь рассказала свою печальную историю очередной начальнице, и та снова определила Глашу в посудомойки. Позвякав один день посудой, она на следующий, вместо посудомоечной, пошла на пляж. Но не на центральный (у нее ведь не было купальника), а на окраинный.
Там она и познакомилась с Полиной, симпатичной девицей, бойко торгующей квасом, рассказала ей свою историю.
– Слышь, сирота казанская, могу платить тебе 50 рэ в месяц, будешь мыть стаканы. Ну и еще кое-что. Жить пока можешь у меня и столоваться тоже. 30 рэ койко-место и двадцать – питание. Что сверху зашибем – 70 на 30. Годится?
– Годится, – ответила Глафира.
– Тогда иди в душевую, пока не закрыли, омой там сиротские слезы и свою кормилицу. Вечером на танцы идем, в санаторий дальней авиации. Кроме мытья стаканов из-под кваса, Глафира должна была делать еще много чего. Но главным делом была торговля из-под полы водкой, чачей и самодельным вином «Изабелла». Хотя и без левых продаж торговля квасом была для Полины очень доходным делом – с каждого стакана, проданного за три копейки, две оставались у продавца.
Расширить штат Полине посоветовал ее знакомый, милиционер Ашот, молодой красавец-армянин.
– Поля, ты возьми себе какую-нибудь дэвку стаканы мыть, пусть она и спиртным торгует, а ты ни при чем, если что.
Вот тут как раз Глашка-то и подвернулась. А поскольку она была еще девкой в теле и в полном соку, то и на другое сгодится, подумалось Полине. Ашот был участковым милиционером Предгорного района Ялты. А Полина была его внештатным сотрудником-осведомителем и штатной любовницей, которая приносила неплохой доход с торговли квасом и ему, и начальству. Два раза месяц он приходил к внештатному сотруднику за деньгами. И – не только. Когда появилась Глафира, он стал являться чаще. Ему очень нравились женщины в теле и с выдающимися формами. Полина была тоже ничего, но чуток суховата. Зато эта…
– То, что доктор пропысал: буфера во какие, джуф, задница ее, как у кобылицы, ай-вай какая! – хвастался он своим дружкам-сослуживцам, жестикулируя и запивая шашлык армянским коньяком.
– Э, ара, на сэбэ не показывай, примета плохой! – возбужденно кричали сослуживцы в ответ.
Очень скоро и Глаша стала его штатной любовницей.
– Тебя надо пропысать, Глафира, – лежа на кровати Полины и почесывая волосатую грудь, проговорил Ашот. – Давай мне паспорт, я подумаю.
На следующий день, пробив ее паспорт в отделении милиции, участковый Ашот громко ругал Глафиру: «Э, ара, что это за паспорт? Ты где его взяла? Он же во всесоюзном розыске! Тэбэ это надо? Надо новый паспорт делать, Глафира! Я снова подумаю. Иди работай».
И, подумав, милиционер Ашот, знавший всех и каждого на своем участке, решил прописать Глашу к одинокому ветерану войны, инвалиду Морозову Алексею Ивановичу. Как внучку – к дедушке. Ветеран этот, Морозов, страшно изувеченный войной, жил один в конюшне бывшего буржуйского поместья. Барский дом был переделан под госпиталь, а к нему и приписали инвалида. Была такая практика – изуродованных одиноких фронтовиков приписывать к разным больницам: истопниками, дворниками, да хоть кем, а попутно там их и подлечивали. У Алексея Ивановича, фронтовика, не было половины головы и кисти правой руки. Врачи вообще не понимали, как он жив. А он вот жил, ходил-бродил, ел-пил и даже работал. У инвалида не было одного глаза, одного уха, не было полчерепа. Такие травмы по медицинской науке считались несовместимыми с жизнью. Но он все равно жил. Один профессор из Москвы даже защитил докторскую диссертацию под названием «Феномен Морозова». Вот к этому феномену участковый Ашот и прописал Глашу. А потом выправил и «утерянный» паспорт на имя Морозовой Глафиры Ивановны с пропиской: город Ялта, улица Пригорная, дом 7, строение 3.
С того момента Глашка-хохлушка стала не только штатной любовницей участкового, она стала его собственностью до конца дней. Правда, Ашот в дальнейшем устроил ее и на денежную работу – художником. Рисовать Глафира, конечно, не умела, но с красками была на «ты». В ее трудовой книжке появилась единственная запись: «художник-оформитель городского коммунального хозяйства». В те годы это была очень блатная работенка. Глашка стала раскрашивать веночки и искусственные цветы на городском кладбище. Работа, как говорится, не бей лежачего, непыльная, и очень денежная: сколько там этих веночков-цветочков продали, кто его знает? А сколько их сняли с могил вечером и принесли обратно художнику, и подавно неизвестно.
Доход, разумеется, распределял Ашот. А позже он разрешил Глашке и замуж выйти за Потапа. Понаблюдал за ним, понаблюдал – и разрешил: «Хозяйствэнный мужик, а мужчина, ара, должен быть хозяйствэнным. Я подумал: выходи за нево».
И Глашка закатила пир на всю округу. Но это было уже после скоропалительной смерти инвалида, ветерана войны, дедушки Морозова Алексея Ивановича. Которого, к слову сказать, Глаша похоронила со всеми воинскими почестями у себя же на кладбище. Вообще-то, на деле, ее «дедушка» и не был никаким ветераном Морозовым Алексеем Ивановичем, а был он одним из тех полицаев, которые во время оккупации Крыма выследили и расстреляли здесь же, под Чинарой, кавалера Мамашули, партизана Леню, дедушку Василины. При освобождении Крыма от захватчиков передовые отряды советской армии нашли страшно изувеченного «красноармейца», в солдатской книжке которого было указано: Морозов Алексей Иванович. И, чуть живого, доставили его в госпиталь, где врачи констатировали: «Не жилец. Судя по всему, у него граната в руке взорвалась». А тот вот выжил всем на удивление. Мамашуля и Василина очень боялись соседа-инвалида. Может, из-за страшных увечий, а может, еще почему.
После замужества Глашка-хохлушка, художница, опять поменяла фамилию и стала Фабриченко Глафирой Ивановной. Если бы она только знала о превратностях судьбы, то никогда бы не пошла на это, хотя фамилию свою она не любила страшно. Глашкин отец тоже не любил свою фамилию, а из-за нее – всех русских. По-русски его фамилия писалась Поносюк. И с детских лет его обзывали оскорбительной кличкой «Понос». А правильно должны были писать Панасюк – от слова «пан». Через эту инсинуацию отец и стал ярым украинским националистом, хоть и украинцем был только наполовину – мать его была полька. А как пришли немцы, он сразу стал полицаем. А уже позже, после отступления, сделался канадским эмигрантом. В Канаде он сколотил банду из таких же патриотов «Незалежной» и обложил жесточайшим рэкетом остальных своих соотечественников. Со временем разбогател, поднялся, стал уважаемым господином, да вдруг заболел коварной болезнью. Вот тогда-то он и вспомнил про свою верную жену Кристю из-под Каменца-Подольского и дочку свою Глашу. Детей у него больше не было и быть не могло. При отступлении он был ранен в пах, за что еще сильнее стал ненавидеть русских. Люто ненавидеть. Кстати, Поносом его величали и в Канаде. Так вот Понос написал завещание, в котором все движимое и недвижимое имущество, а также все деньги, несколько миллионов хоть канадских, но долларов, после его смерти отходили к его дочери, Поносюк Глафире Михеевне. Но такой в Советском Союзе не было, сколько ни искали.
К тому времени, как родился Миколька, барские конюшни стараниями Потапа окончательно превратились в дом. И там жила молодая счастливая семья: муж-крановщик, жена-художница и сын Николай.
Сын их все детство играл с соседской девкой с каким-то мужским именем Василина. Глашке-художнице она не нравилась: «Ходит тут, болтает своими бантиками – здравствуйте, тетя, спасибо, тетя, пожалуйста, тетя – малахольная какая-то… И бабка ее такая же. Вся рожа в оспе, а она прется такая гордая с мордою. Да и Дашка вся в нее. Со школы все по райкомам да по горкомам шатается. Конечно, комсомолки – тоже телки. Пялят ее там во всех кабинетах партийных на кожаных диванах. Правильно Ашотик говорит. Только вот насчет дворянок да староверок пошутил, наверное. Какие они дворянки? Эти дворянки – все лесбиянки по пьянке. То с ними мужики-то и не живут. Противно, наверно, тому, кто не знает», – думала Глафира, сидя на скамье во дворе и глядя на играющих детей. В общем, не нравилась ей соседская девчонка с детства.
«Не дай бог, вырастет, забрюхатит ее Микола, да и охомутает она его. Вон парень-то какой видный растет. Да не про ее честь».
«Он у меня не дурак, – снова подумала Глашка и посмотрела на часы: ой, уже пора борщец греть. Скоро Потапик притопает – мой бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка бела губа была тупа. И какой дурак придумал это стихотворение? А я, дура, зачем-то выучила». Глафира встала со скамьи и ушла в дом.
Если по-честному, Василине тоже не очень нравилась Миколькина мама. От нее всегда пахло краской.
Глава 7. Второй
В декабре колхоз «Светлый путь» подводил итоги года. Он, как обычно, победил во всех соцсоревнованиях и премировал колхозников. Начались бесконечные вечера трудовой славы, на которых группа «Гулливеры» должна была играть в обязаловку. И она играла чуть ли не каждый день, попутно репетируя программу к Новому году. Учиться в школе было некогда и неинтересно, но Василина училась в десятом классе, единственная из группы, все остальные рокеры со школой уже завязали. Училась Василина, как ни странно, хорошо. Этому даже учителя удивлялись, наслышанные о ее успехах на эстраде.
– Как-то все успевает девчонка – берите пример, лоботрясы, – рекомендовали они другим выпускникам. А на эстраде первый порыв «общечеловеческой хипповой любви» уже закончился. Настали трудовые будни группы, правда, тоже веселые. Ребята-музыканты практически жили в клубе. Друшляли (спали) в оркестровке на матрасах, застеленных старыми бархатными кулисами. Берляли (ели) в буфете. Лабали, лабали, лабали (играли) – в общем, репетировали. Василина же каждый день уезжала последним автобусом домой, а на следующий день после школы возвращалась обратно – петь, репетировать и лабать. В группе «Гулливеры» из пяти человек нарисовались три лидера. Первым и официальным был Валерка Ганс из Питера. В Питер он перебрался когда-то из Тюмени. Клевый чувак, рубаха-парень, добряк и трудяга. Постоянно с паяльником в руках и с отверткой. Он был мягким ненастырным человеком, не вредным, но твердым, курил втихушку планчик, с удовольствием потреблял сушнячок и вел своих «Гулливеров» в светлое будущее по светлому пути на Олимп. Он был старше всех, и у него не было иллюзий по поводу этого светлого будущего советских лабухов.
Вторым явным лидером, с претензией на музыкальную гениальность, был гитарист Мишка Ценкель. Он придумал себе прозвище Цезарь и всем представлялся не иначе, но эти все, музыканты то бишь, за глаза его упорно звали «целкой», скорее всего, из-за созвучной фамилии. Был он невысокого роста с черной, как у Джимми Хендрикса, копной кудрявых волос, страшно неряшливым, охочим до девок и халявного бухла. Жуткий пройдоха и одновременно – правдолюб. Очень живой, эксцентричный и невероятно ленивый. За все время существования группы он не участвовал ни в одной погрузке-разгрузке аппаратуры, незаметно куда-то исчезая: уникальное явление для рокеров тех лет. При этом гитарист он был от бога. Кумиром Целки-Цезаря был Блэкмор из «Дип Пёрпл». Он был так на нем подвинут, что его мама, врач Софья Эдуардовна Ценкель, забеспокоившись о его здоровье, даже определила сына в психоневрологический стационар на неопределенный срок. Но Цезарь каким-то образом протащил туда гитару, магнитофон с наушниками и сутками напролет снимал виртуозные запилы своего бога. И снял всего – от ноты до ноты. Ему это удалось одному из миллионов таких же фанатов-гитаристов со всей планеты. Цезарь снял манеру игры Блэкмора просто в «ноль». С тех пор, где бы он ни лабал, какие бы песни ни обыгрывал на сцене, даже «День Победы» Тухманова, из колонок звучал Ричи Блэкмор.
Были в группе «Гулливеры» еще два пацана-музыканта, как говорится, без претензий. Бас-гитарист Толик Бобров по прозвищу Бобер, а позже просто Боб. Он вообще-то был футболистом и играл в полупрофессиональной команде «Луч» того же колхоза «Светлый путь», но очень любил музыку. Легко освоив бас-гитару с помощью Валерки Ганса, и бэки, он стал первым участником группы. Парень был весеелый, открытый, не курящий и не пьющий – неслыханное дело среди музыкальной тусни. Толик-Боб был высокого роста, крепкого телосложения. Симпатичный мужской профиль его всегда загорелого лица обрамляли русые волосы, повязанные ленточкой на лбу. Он был надежным щитом группы от всякой шпаны и пьяни на сцене и сильно контрастировал с кудрявой башкой невысокого Целки-Цезаря. Очень нравился девочкам, и Василине – тоже. Но и только. Вторым парнем без понтов был барабанщик Рашид Ималеев из казанских татар. Его родители приезжали в Крым из Казани собирать фрукты в сезон. Присмотрелись, зацепились, с кем надо, и прописались жить, а потом родился Рашид. Между собой все звали его Раш, до тех пор, пока однажды Рашид не приволок в оркестровку ксилофон и не забацал на нем нечто румыно-венгеро-молдавское с таким блеском, что остолбеневший Валерка Ганс только и смог вымолвить: «Раш, да ты гуцул какой-то!»
И Рашид стал Гуцулом. Он учился в музыкальном училище на заочном отделении по классу ударных. Там готовили специалистов широкого профиля для симфонических и духовых оркестров, учили колотить по литаврам, по тарелкам и малому барабану – в общем, полная лажа. Но ксилофон Гуцулу понравился, и он его освоил факультативно на всякий пожарный. Боб и Гуцул стали друзьями и основной опорой Валерки Ганса. Третьим лидером группы стала Василина, нисколько на это не претендуя. Как появилась в группе, так и стала. Во-первых, она клево пела. Во-вторых, приносила, благодаря Сливе, клевые вещи. В-третьих, она была клевая чувиха и к тому же красивая. Василина и вправду очень выгодно отличалась от своих запанкованных, захипованных коллег женского пола. Она была высокой, стройной и очень галантерейной. Не красила хной волосы в красный цвет и зеленкой – в зеленый. Пирсинг с кольцом в носу отрицала наотрез. Не штукатурилась – она вообще не пользовалась косметикой. Ходила прямо, без приблатненных раскачек, в чистой одежде и чистой же обуви. Но главное, что было необъяснимо в Василине, – на эстраде от нее исходил какой-то свет, какое-то тихое сияние. Она приковывала к себе все взгляды, как только появлялась на сцене. Ну, а как начинала петь – это был отпад! Она стала не только лидером, но и сердцем этой команды сельского клуба, но никогда не пользовалась этим, не спекулировала.
Начались новогодние праздники, а с ними и каникулы в школе у Василины, которую музыканты группы звали уже не Линкой, а просто Ли. Один Слива по-прежнему величал ее Линой, когда изредка прикатывал на репетиции в своих «жигулях». Боб, Гуцул и даже Валерка Ганс смотрели на эту жигу с восхищением и с любовью, а Цезарь-Целка – с завидками, как говорила цыганка Настя из фольклорного ансамбля «Ромалы», базирующегося здесь же, в клубе. Пошли новогодние огоньки, и все коллективы, в них задействованные, перешли на казарменное положение.
Цыганка Настя была старше Василины, но такая же стройная, гибкая, неудержимая, с какой-то искринкой в глазах, необъяснимо красивая и дерзкая. Как и Василина, она была солисткой в своем ансамбле, задушевно пела столетние цыганские песни на родном языке и танцевала страстно и обворожительно.
– Дай погадаю, красавица! – обратилась она как-то к Василине прямо на лестничной клетке.
– Мне прабабушка не велит гадать, – весело проговорила Василина, пытаясь обойти незнакомку.
– Не бойся, не укушу и денег не возьму. А может, брезгуешь? – посмотрев с ухмылкой, спросила Настя.
– Почему брезгую? С чего это вы? – удивилась и даже обиделась Василина.
– Не сердись, вон как глаза-то засверкали! Дай руку, судьбу посмотрю, мне интересно, да и тебе, наверное, тоже, – сказала вдруг мягко цыганка и улыбнулась.
– Возьмите, – ответила Василина и с опаской протянула руку.
Бережно взяв руку, Настя посмотрела на ладонь и вдруг как бы отбросила ее, потом подняла на Василину свои большие карие, с поволокой, глаза и сказала: «А про прабабку свою Катю ты не врала: ведет она тебя по жизни. И дочку твою Машку тоже будет вести». Крутнула юбкой, развернувшись, и пошла.
– Хорошо поешь, меня Настей кличут, – сказала она, не оборачиваясь.
– Вы тоже хорошо поете. Меня – Василиной, – ответила Василина.
– Знаю, – сказала цыганка и скрылась за поворотом.
Василина растерянно стояла на лестнице и с удивлением смотрела вслед ушедшей Насте.
– Откуда она имя прабабки знает? Я ведь не говорила. И про дочку какую-то Машку, – пронеслось в голове у Василины. – Во дела!
И она медленно пошагала в танцевальный зал на сцену. Вот так странно они и познакомились, а потом и подружились.
На сцене репетировали новые песни группы «Шаде», и Цезарь-Целка весь исстонался: «Что это за музон? Полная лажа, фуфло какое-то попсовое. Где здесь рок? Где хеви-металл? Верзо на дубине – вот что это». Из-за этого ничего не получалось. Василина подошла к нему и вдруг поцеловала в губы. Все обалдели, и Мишка – первый.
– Это тебе за талант твой, Цезарь. А это, – и она с полной силой влепила ему звонкую пощечину, – а это, Целка, за оскорбление клевой команды «Шаде».
Цезарь-Целка вмиг сдулся, и все покатило, срослось.
В ночь с тридцать первого декабря на первое января в клубе состоялся настоящий новогодний огонек: со столиками, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с «Елочкой, зажгись!», с концертом художественной самодеятельности из профессиональных артистов и, конечно, с цыганами из фольклорного ансамбля «Ромалы». Группа «Гулливеры» после цыган подняла толпу и начались танцы до упаду. В 23:45 вышел на сцену сам директор колхоза «Светлый путь» Иван Иванович Кравцов, двинул поздравительную речь, а потом просто добавил: «А сейчас, товарищи, все на выход – салют будет!»
Все ринулись наружу. Ровно в двадцать четыре часа, после звона курантов, загремел салют – прекрасное, восхитительное огненное шоу с восходящими в небо потоками огней и радости. Тогда салюты были большой редкостью: только на День Победы 9 мая. Да и то – по телеку. Оттого и вся группа «Гулливеры», и все заезжие и местные артисты, и весь нарядный народ были на улице без верхней одежды. Зима выдалась по-весеннему теплой, без снега. Все с восхищением смотрели вверх и кричали «Ура!» Василина, счастливая от новизны, молодости и от запаха весны в новогоднюю ночь, тоже, глядя в сказочно сверкающее небо, кричала «Ура!» и вдруг почувствовала, что кто-то трясет ее за локоть. Она обернулась и увидела цыганку Настю, которая, прильнув к ее уху, прошептала: «Сегодня бойся – черный придет». Повернулась и исчезла в толпе. А Василина осталась стоять посреди веселой толпы с удивленным лицом.
Директор клуба щедро выделил группе «Гулливеры» ящик крымского шампанского и ящик коньяка «Арарат», сделанного здесь же, в колхозе, для празднования Нового года. Группа «Гулливеры» и праздновала в перерывах между выступлениями: по-настоящему и от души. В четыре утра веселье пошло на убыль, и народ стал расходиться. Музыканты собрали инструменты и отправились в оркестровку на второй этаж. Там приняли еще за Новый год и стали укладываться. Боб и Гуцул устроили Василине гнездышко за пианино, притащив туда мат и бархатную штору-кулису. Василина разделась наполовину и с удовольствием легла спать под затихающие смешки и шуточки музыкантов и их подружек. Проснулась она от того, что кто-то вошел в нее, пристроившись сзади. Резко развернувшись, она увидела улыбающуюся физиономию Цезаря-Целки.
– Целка, ты подлец, – сказала Василина почему-то тихо.
– Да, я часто подличаю, а ты не целка, – ответил он так же тихо, весело и ласково.
Потом стал гладить ее по руке, по шее, по груди, по талии, потом поцеловал умело, потом Василина почувствовала его руку там, где не бывало ни одной руки, кроме ее, потом ей стало все равно. Потом Василина тихо встала, обернулась кулисой и ушла в мужской туалет – он был ближе. Когда она вернулась, Цезарь сладко спал, и ей опять стало стыдно, больно и обидно, как в детстве. Было противно, что это произошло здесь, на полу, среди людей, с этим самовлюбленным Мишкой. Она потихоньку собралась и уехала первым автобусом домой под Чинару, к Мамашуле.
Вечером того же дня Василина услышала частые и довольно противные гудки автомобиля. Она вышла из дома на улицу и увидела за забором «Запорожец» с открытой дверцей и стоящего рядом в дубленке нараспашку Цезаря-Целку.
– Че, поехали на работу? – крикнул он ей. – Глянь, какой «Запор» подогнал мне отец на Новый год! Собирайся, я жду.
По правде, Василина и не собиралась ни на какую работу. Она не хотела ни петь, ни улыбаться, она не хотела ничего. Но она пошла собираться, выслушала наставления бабушки, вышла и села в машину. Приехали они быстро.
– Это тебе не автобус, – бахвально заявил Цезарь.
Подъехали к клубу, он сбегал и позвал «гулливеров» с телками. Все вывалили на улицу и стали радостно поздравлять чувака. А потом поднялись в оркестровку и обмыли тачку тем, что осталось после вчерашнего.
Седьмого января елки закончились, и группа разъехалась отдыхать. А «Светлый путь» и весь советский народ вышел пахать. У Василины было еще три дня до школы, и она проводила их в тишине и покое. За день до школы приехал Цезарь, посигналил и после того, как Василина вышла к нему, весело объявил: «А я тебе букетик подарил!» И заржал. Василина безразлично спросила: «Какой букетик, Миша?»