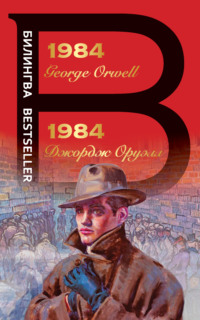
1984
Winston belched again. The gin was wearing off, leaving a deflated feeling. The telescreen – perhaps to celebrate the victory, perhaps to drown the memory of the lost chocolate – crashed into “Oceania, ’tis for thee”. You were supposed to stand to attention. However, in his present position he was invisible.
“Oceania, ’tis for thee” gave way to lighter music. Winston walked over to the window, keeping his back to the telescreen. The day was still cold and clear. Somewhere far away a rocket bomb exploded with a dull, reverberating roar. About twenty or thirty of them a week were falling on London at present.
Down in the street the wind flapped the torn poster to and fro, and the word INGSOC fitfully appeared and vanished. Ingsoc. The sacred principles of Ingsoc.
Newspeak, doublethink, the mutability of the past. He felt as though he were wandering in the forests of the sea bottom, lost in a monstrous world where he himself was the monster. He was alone. The past was dead, the future was unimaginable. What certainty had he that a single human creature now living was on his side? And what way of knowing that the dominion of the Party would not endure for ever? Like an answer, the three slogans on the white face of the Ministry of Truth came back to him:
WAR IS PEACE
FREEDOM IS SLAVERY
IGNORANCE IS STRENGTH
He took a twenty five cent piece out of his pocket. There, too, in tiny clear lettering, the same slogans were inscribed, and on the other face of the coin the head of Big Brother. Even from the coin the eyes pursued you. On coins, on stamps, on the covers of books, on banners, on posters, and on the wrappings of a cigarette packet – everywhere. Always the eyes watching you and the voice enveloping you. Asleep or awake, working or eating, indoors or out of doors, in the bath or in bed – no escape. Nothing was your own except the few cubic centimetres inside your skull.
The sun had shifted round, and the myriad windows of the Ministry of Truth, with the light no longer shining on them, looked grim as the loopholes of a fortress. His heart quailed before the enormous pyramidal shape. It was too strong, it could not be stormed. A thousand rocket bombs would not batter it down. He wondered again for whom he was writing the diary. For the future, for the past – for an age that might be imaginary. And in front of him there lay not death but annihilation. The diary would be reduced to ashes and himself to vapour. Only the Thought Police would read what he had written, before they wiped it out of existence and out of memory. How could you make appeal to the future when not a trace of you, not even an anonymous word scribbled on a piece of paper, could physically survive?
The telescreen struck fourteen. He must leave in ten minutes. He had to be back at work by fourteen thirty.
Curiously, the chiming of the hour seemed to have put new heart into him. He was a lonely ghost uttering a truth that nobody would ever hear. But so long as he uttered it, in some obscure way the continuity was not broken. It was not by making yourself heard but by staying sane that you carried on the human heritage. He went back to the table, dipped his pen, and wrote:
To the future or to the past, to a time when thought is free, when men are different from one another and do not live alone – to a time when truth exists and what is done cannot be undone:
From the age of uniformity, from the age of solitude, from the age of Big Brother, from the age of doublethink – greetings!
He was already dead, he reflected. It seemed to him that it was only now, when he had begun to be able to formulate his thoughts, that he had taken the decisive step. The consequences of every act are included in the act itself. He wrote:
Thoughtcrime does not entail death: thoughtcrime IS death.
Now he had recognized himself as a dead man it became important to stay alive as long as possible. Two fingers of his right hand were inkstained. It was exactly the kind of detail that might betray you. Some nosing zealot in the Ministry (a woman, probably: someone like the little sandy-haired woman or the dark haired girl from the Fiction Department) might start wondering why he had been writing during the lunch interval, why he had used an old fashioned pen, what he had been writing – and then drop a hint in the appropriate quarter. He went to the bathroom and carefully scrubbed the ink away with the gritty dark brown soap which rasped your skin like sandpaper and was therefore well adapted for this purpose.
He put the diary away in the drawer. It was quite useless to think of hiding it, but he could at least make sure whether or not its existence had been discovered. A hair laid across the page ends was too obvious. With the tip of his finger he picked up an identifiable grain of whitish dust and deposited it on the corner of the cover, where it was bound to be shaken off if the book was moved.
II
Взявшись за дверную ручку, Уинстон обратил внимание на раскрытые страницы дневника на столе. «ДОЛОЙ БОЛЬШОГО БРАТА» повторялось на них столько раз и такими крупными буквами, что можно было разглядеть надписи через всю комнату. Немыслимая глупость! Несмотря на панику, он понял, что не хочет пачкать кремовую бумагу, захлопывая тетрадь, прежде чем просохнут чернила.
Уинстон вздохнул и открыл дверь. Облегчение теплой волной прокатилось по всему телу. За дверью стояла потрепанного вида женщина, невзрачная, с жидкими всклокоченными волосами и морщинистым лицом.
– Ох, товарищ, – затянула она тоскливым голосом, – я услыхала, вы вроде дома. Вы бы не зашли к нам посмотреть раковину на кухне? Она засорилась и…
Это была миссис Парсонс, жена соседа по этажу. (Партия почему-то не одобряла слово «миссис» – полагалось ко всем обращаться «товарищ», – но некоторых женщин называть иначе язык не поворачивался.) Женщина лет тридцати, но на вид гораздо старше. Казалось, в ее морщинах на лице залегла пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Слесарная самодеятельность стала едва ли не ежедневной морокой. Старый жилкомплекс «Победа» возвели годах в тридцатых – и весь он уже разваливался. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, крыша текла всякий раз, как выпадал снег, а отопление обычно работало на половинном давлении, если его не отключали совсем из соображений экономии. Если ты не мог починить чего-то сам, то приходилось ждать распоряжений неуловимых комитетов, которые даже с ремонтом оконной рамы могли тянуть по два года.
– Я ведь только потому, что Том не дома, – пробормотала миссис Парсонс.
Квартира Парсонсов была больше, чем у Уинстона, и убожество ее выражалось иначе. Все вещи имели потрепанный, побитый вид, как будто здесь только что побывал крупный злобный зверь. По всему полу валялись спортивные принадлежности – хоккейные клюшки, боксерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, вывернутые наизнанку потные шорты, – а на столе громоздилась грязная посуда и замызганные школьные тетради. На стенах алели знамена Молодежной лиги и лиги Разведчиков, и висел полноразмерный плакат Большого Брата. Пахло здесь, как и во всем доме, вареной капустой, но привычный запах оттеняла острая вонь едкого пота, которую оставил после себя кто-то отсутствующий в данный момент. Такие подробности по неизвестной причине становились понятны с первого вдоха. В соседней комнате кто-то трещал клочком туалетной бумаги по зубьям расчески, неумело подыгрывая военной музыке, продолжавшей звучать с телеэкрана.
– Это дети, – сказала миссис Парсонс, бросив тревожный взгляд на дверь. – Они сегодня не гуляли. И, конечно…
У нее была привычка обрывать предложения на середине. Раковина на кухне почти до краев заполнилась грязной зеленоватой водой, смердевшей хуже капусты. Уинстон опустился на колени и осмотрел угловую муфту на сливной трубе. Он терпеть не мог работать руками, терпеть не мог нагибаться – и всегда от этого кашлял. Миссис Парсонс стояла рядом с беспомощным видом.
– Был бы дома Том, он бы вмиг прочистил, – сказала она. – Он любит такими делами заниматься. Мастер на все руки.
Парсонс, как и Уинстон, работал в Министерстве правды. Это был полный, но неугомонный малый, тупой до невозможности сгусток кретинского энтузиазма – один из тех беспрекословных преданных трудяг, на которых Партия опиралась надежнее, чем на Мыслеполицию. Только в тридцать пять он с неохотой оставил ряды Молодежной лиги, а до этого умудрился пробыть в Разведчиках на год дольше положенного. В министерстве он занимал какую-то незначительную должность, для которой не требовалось особого ума, зато стал ведущей фигурой в Спортивном комитете и в целом ряде других структур для организации турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Попыхивая трубкой, он не без гордости сообщал товарищам, что вот уже четыре года, как он не пропустил ни одного вечера в Центре досуга. Его всегда сопровождал одуряющий запах пота, являясь невольным знаком усердной жизнедеятельности и еще долго витая в помещении даже после ухода Парсонса.
– У вас есть гаечный ключ? – спросил Уинстон, тронув гайку на муфте.
– Гаечный, – сказала миссис Парсонс, обмякая на глазах. – Я даже не знаю. Может, дети…
Раздался топот, очередная трель расчески – и в комнату вкатились дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением извлек из трубы клок волос. Он, как мог, отмыл пальцы под холодной водой и вернулся в другую комнату.
– Руки вверх! – рявкнул свирепый голос.
Из-за стола вынырнул симпатичный крепыш лет девяти, наставляя на него игрушечный автоматический пистолет, а его сестренка, младше года на два, направила на Уинстона деревяшку. Оба были одеты в форму Разведчиков: синие шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстон с беспокойством поднял руки над головой – мальчик держался так злобно, что это не было похоже на игру.
– Ты предатель! – завопил он. – Мыслефелон! Ты евразийский шпион! Я тебя застрелю, испарю, я тебя отправлю в соляные шахты!
И они оба принялись скакать вокруг Уинстона, вереща «Предатель!» и «Мыслефелон!» – девочка повторяла каждое движение за братом. Это немного пугало, как возня тигрят, которые скоро вырастут в людоедов. В глазах мальчика виднелась какая-то свирепая расчетливость, почти неодолимое желание ударить Уинстона и понимание того, что очень скоро это будет ему по силам. Уинстон подумал, как ему повезло, что у мальчика не настоящий пистолет.
Взгляд миссис Парсонс нервозно перебегал между гостем и детьми. В гостиной было светлее, и он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно засела пыль.
– Они что-то расшумелись, – сказала она. – Не понравилось, что их не возьмут на повешение, вот почему. Мне с ними некогда, а Том к тому времени еще не вернется с работы.
– Почему нам нельзя посмотреть, как вешают? – возмущенно завопил мальчик.
– Хочу смотреть, как вешают! Хочу смотреть, как вешают! – заголосила девочка, продолжая скакать.
Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в парке будут публично вешать евразийских военных преступников. Такое зрелищное мероприятие устраивали примерно раз в месяц. Дети вечно просились со взрослыми. Он вышел от миссис Парсонс и направился к себе, но не прошел по коридору и шести шагов, как что-то больно ужалило его сзади в шею. Словно воткнули обрывок раскаленной проволоки. Уинстон резко обернулся и увидел, как миссис Парсонс затаскивает в дверь сына, прячущего в карман рогатку.
– Голдштейн! – заорал мальчик, исчезая за дверью.
Больше всего Уинстона изумило выражение беспомощного страха на сером лице матери.
Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телеэкрана и снова сел за стол, потирая шею. Музыка уже не играла. Теперь отрывистый военный голос, кровожадно смакуя подробности, зачитывал описание вооружений новой Плавучей крепости, только что вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами.
Уинстон подумал, что с такими детьми эта несчастная женщина живет в постоянном страхе. Еще год-другой, и они начнут следить за ней днем и ночью, норовя уличить хоть в чем-нибудь. Теперь почти все дети ужасны. Хуже всего, что с помощью таких организаций, как Разведчики, их методично превращают в необузданных маленьких дикарей, но у них не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают Партию и все, что с ней связано. Песни, парады, знамена, походы, муштра с учебными винтовками, громкие лозунги, восхваление Большого Брата – все это им представляется захватывающей игрой. Их натравливают на чужаков, на врагов Режима, на иностранцев, предателей, вредителей, мыслефелонов. Для людей старше тридцати стало в порядке вещей бояться собственных детей. И не без причины, ведь почти каждую неделю «Таймс» публикует заметки, как очередной мелкий ябедник – «маленький герой», как их обычно называют – грел дома уши и донес на родителей в Мыслеполицию, услышав подозрительные высказывания.
Боль в шее уже утихла. Уинстон взял ручку со смешанными чувствами, не зная, стоит ли занести в дневник что-то еще. Ему на ум вдруг снова пришел О’Брайен.
Несколько лет назад (сколько же именно – лет семь, пожалуй?) Уинстону приснилось, что он идет по комнате в кромешной тьме. И кто-то, сидевший чуть в стороне, говорит ему: «Мы встретимся там, где нет темноты». Это было сказано совсем тихо, почти между делом – замечание, а не приказ. Уинстон пошел дальше, не остановившись. Как ни странно, во сне он не придал значения этим словам. Только со временем, постепенно они стали обретать смысл. Он не мог теперь припомнить, увидел ли этот сон до или после знакомства с О’Брайеном, как не мог припомнить и когда он впервые решил, что слышал во сне именно его голос. Так или иначе голос он этот опознал. В темноте к нему обращался O’Брайен.
Уинстон никак не мог уяснить – даже после утреннего обмена взглядами – друг или враг ему О’Брайен. Хотя это как будто было не так уж и важно. Между ними промелькнуло понимание, значившее больше, чем взаимное расположение или заговорщицкий дух.
«Мы встретимся там, где нет темноты», – так он сказал.
Уинстон не понимал, что это значит, – знал только, что слова из сна так или иначе сбудутся.
Голос с телеэкрана прервался. В душном воздухе комнаты раздался звук фанфар, чистый и прекрасный. Голос проговорил со скрежетом:
«Внимание! Прошу внимания! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Я уполномочен заявить, что настоящее событие вполне может приблизить завершение войны в обозримом будущем. Передаю сводку новостей…»
Уинстон подумал, что надо ждать плохих известий. И действительно: за кровавым описанием разгрома евразийской армии с колоссальными цифрами убитых и взятых в плен последовало объявление, что со следующей недели норма шоколадного рациона сокращается с тридцати граммов до двадцати.
Уинстон снова рыгнул. Джин почти выветрился, оставляя после себя чувство подавленности. Телеэкран разразился песней «Во славу твою, Океания» – то ли в честь победы, то ли чтобы отвлечь людей от сокращения шоколадного пайка. Полагалось встать по стойке «смирно», но Уинстон находился вне зоны видимости телеэкрана.
«Во славу твою, Океания» сменилась легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. День был все такой же холодный и ясный. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвалась ракета. На Лондон их сбрасывали от двадцати до тридцати в неделю.
На улице ветер продолжал трепать оторванный угол плаката, то открывая, то скрывая слово «АНГСОЦ». Ангсоц. Священные устои Ангсоца.
Новояз, двоемыслие, пластичность прошлого. Уинстон почувствовал себя так, будто бредет по морскому дну через лес водорослей, затерявшись в монструозном мире, где и сам он – монстр. Он был один. Прошлое – мертво, будущее – невообразимо. Как он мог быть уверен, что на его стороне хоть одно человеческое существо из ныне живущих? И разве можно знать, что владычество Партии не будет вечным? Вместо ответа он прочитал три лозунга на белом фасаде Министерства правды:
ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕЗНАНИЕ – ЭТО СИЛА
Уинстон достал из кармана монетку в двадцать пять центов. На ней значились те же три лозунга, набранные аккуратным мелким шрифтом, а на оборотной стороне – лицо Большого Брата. Даже с монеты за тобой наблюдали эти глаза. Они были везде: на монетах, марках, книжных обложках, на знаменах и плакатах, на сигаретных пачках. Ты всегда чувствовал на себе взгляд и слышал вкрадчивый голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванной и в постели – никуда от этого не деться. Не оставалось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри черепной коробки.
Солнце ушло, и мириады окон Министерства правды перестали отражать его свет, потемнев, как бойницы крепости. Сердце Уинстона сжалось при виде исполинской пирамиды. Она слишком прочна, ее не взять штурмом. И тысяча ракет не сможет сровнять ее с землей. Он снова задумался, ради кого пишет дневник. Ради будущего, ради прошлого – ради века, может, лишь воображаемого. Перед ним же маячила не смерть, но бесследное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он просто испарится. Его слова прочтет только Мыслеполиция, прежде чем стереть их с лица земли и из истории. Как можно обращаться к будущему, когда от тебя не останется никакого следа в этом мире, даже анонимных слов, нацарапанных на клочке бумаги?
Телеэкран пробил четырнадцать часов. До выхода десять минут. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати.
Бой часов, как ни странно, вернул ему присутствие духа. Уинстон был одиноким призраком, изрекавшим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он ее изрекает, связь времен таинственным образом продолжается. Ты несешь в себе человеческое начало не тогда, когда тебя слушают, а когда ты сохраняешь ясное сознание. Он вернулся к столу, обмакнул перо в чернила и написал:
Будущему или прошлому, времени, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночку – времени, когда существует правда, и что сделано, то сделано:
Из века одинаковых, из века одиночек, из века Большого Брата, из века двоемыслия – приветствую тебя!
Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последствия любого действия заключены в самом этом действии. Он написал:
Мыслефелония не влечет за собой смерть: мыслефелония ЕСТЬ смерть.
Теперь, когда он признал в себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь и может выдать. Какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве (скорее всего, женщина: хотя бы та маленькая, рыжеватая или темноволосая из Художественного отдела) мог задуматься, почему Уинстон писал в обеденный перерыв, почему писал старомодной ручкой, что он писал – и обмолвиться об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванную и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачная бумага, и потому хорошо подходило для такой задачи.
Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пылинку и поместил на угол обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки.
III
Winston was dreaming of his mother.
He must, he thought, have been ten or eleven years old when his mother had disappeared. She was a tall, statuesque, rather silent woman with slow movements and magnificent fair hair. His father he remembered more vaguely as dark and thin, dressed always in neat dark clothes (Winston remembered especially the very thin soles of his father’s shoes) and wearing spectacles. The two of them must evidently have been swallowed up in one of the first great purges of the fifties.
At this moment his mother was sitting in some place deep down beneath him, with his young sister in her arms. He did not remember his sister at all, except as a tiny, feeble baby, always silent, with large, watchful eyes. Both of them were looking up at him. They were down in some subterranean place – the bottom of a well, for instance, or a very deep grave – but it was a place which, already far below him, was itself moving downwards. They were in the saloon of a sinking ship, looking up at him through the darkening water. There was still air in the saloon, they could still see him and he them, but all the while they were sinking down, down into the green waters which in another moment must hide them from sight for ever. He was out in the light and air while they were being sucked down to death, and they were down there because he was up here. He knew it and they knew it, and he could see the knowledge in their faces. There was no reproach either in their faces or in their hearts, only the knowledge that they must die in order that he might remain alive, and that this was part of the unavoidable order of things.
He could not remember what had happened, but he knew in his dream that in some way the lives of his mother and his sister had been sacrificed to his own. It was one of those dreams which, while retaining the characteristic dream scenery, are a continuation of one’s intellectual life, and in which one becomes aware of facts and ideas which still seem new and valuable after one is awake. The thing that now suddenly struck Winston was that his mother’s death, nearly thirty years ago, had been tragic and sorrowful in a way that was no longer possible. Tragedy, he perceived, belonged to the ancient time, to a time when there was still privacy, love, and friendship, and when the members of a family stood by one another without needing to know the reason. His mother’s memory tore at his heart because she had died loving him, when he was too young and selfish to love her in return, and because somehow, he did not remember how, she had sacrificed herself to a conception of loyalty that was private and unalterable. Such things, he saw, could not happen today. Today there were fear, hatred, and pain, but no dignity of emotion, no deep or complex sorrows. All this he seemed to see in the large eyes of his mother and his sister, looking up at him through the green water, hundreds of fathoms down and still sinking.
Suddenly he was standing on short springy turf, on a summer evening when the slanting rays of the sun gilded the ground. The landscape that he was looking at recurred so often in his dreams that he was never fully certain whether or not he had seen it in the real world. In his waking thoughts he called it the Golden Country. It was an old, rabbit bitten pasture, with a foot track wandering across it and a molehill here and there. In the ragged hedge on the opposite side of the field the boughs of the elm trees were swaying very faintly in the breeze, their leaves just stirring in dense masses like women’s hair. Somewhere near at hand, though out of sight, there was a clear, slow moving stream where dace were swimming in the pools under the willow trees.
The girl with dark hair was coming towards them across the field. With what seemed a single movement she tore off her clothes and flung them disdainfully aside. Her body was white and smooth, but it aroused no desire in him, indeed he barely looked at it. What overwhelmed him in that instant was admiration for the gesture with which she had thrown her clothes aside. With its grace and carelessness it seemed to annihilate a whole culture, a whole system of thought, as though Big Brother and the Party and the Thought Police could all be swept into nothingness by a single splendid movement of the arm. That too was a gesture belonging to the ancient time. Winston woke up with the word “Shakespeare” on his lips.
The telescreen was giving forth an ear splitting whistle which continued on the same note for thirty seconds. It was nought seven fifteen, getting up time for office workers. Winston wrenched his body out of bed – naked, for a member of the Outer Party received only 3,000 clothing coupons annually, and a suit of pyjamas was 600 – and seized a dingy singlet and a pair of shorts that were lying across a chair. The Physical Jerks would begin in three minutes. The next moment he was doubled up by a violent coughing fit which nearly always attacked him soon after waking up. It emptied his lungs so completely that he could only begin breathing again by lying on his back and taking a series of deep gasps. His veins had swelled with the effort of the cough, and the varicose ulcer had started itching.