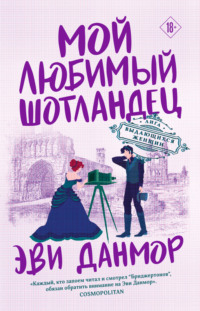
Мой любимый шотландец
– Она подняла шум, – упрямо твердил Ренвик. – Ломилась в дверь так, словно по пятам гнался целый полк головорезов.
Художник содрогнулся всем тощим телом – лишнего шума он терпеть не мог. Люциан прищурился, и Ренвик поспешно пробормотал:
– Ладно, никаких посетителей.
– Отлично, – сказал Люциан, решив этим и ограничиться: хотя Ренвик и способен по неосторожности напустить в дом шпионов, благодаря своему таланту он был лучшим из всех лондонских мастеров, кто в силах незаметно восстановить пятисотлетние полотна. Дверь за угрюмым художником захлопнулась, и Блэкстоун снова повернулся к Мэтьюсу. – И когда же я дал разрешение на экскурсии по своей галерее?
Казалось, помощник готов ринуться наутек.
– Два месяца назад, сэр. Наряду с другими мерами, которые вы одобрили, чтобы э-э… улучшить свою репутацию.
– Два месяца?! – Воспоминание промелькнуло, и он вспомнил список. Мэтьюс преподнес его в тот момент, когда Люциан приходил в себя после недельного запоя, пребывая в весьма мрачном настроении и мучаясь головной болью. – Мэтьюс!
Глаза слуги тревожно округлились.
– Да, сэр.
– Интересно, каким образом разгуливающие среди моей коллекции богатеи добавят мне популярности в палате общин?
– Филантропия – извилистый путь, – проговорил Мэтьюс, поглаживая усы. – Это стратегия постепенных изменений, включающая множество мероприятий, вроде открытия доступа к вашим коллекциям, покровительство художникам…
– Я знаю, что такое филантропия! Убери из списка все, что касается визитов посетителей. Поймай нам кэб до Белгравии и подумай хорошенько. Я хочу разузнать об этой девице Гринфилдов все.
Две мили до городского особняка тянулись долго – мокрые улицы были усыпаны мусором из водосточных труб и переполненных канав, повозки и экипажи загромождали путь, вместо того чтобы двигаться друг за другом. Окна кэба запотели, внутри пахло сыростью. Жаль, что чистая, управляемая умелым кучером карета в настоящий момент везла домой своенравную наследницу.
Мэтьюс сидел напротив, сосредоточенно сдвинув брови.
– Если это средняя дочь, то ей около двадцати – в любом случае она еще несовершеннолетняя.
– Уже помолвлена? Я знаю, что старшая замужем.
Мэтьюс покачал головой.
– Насколько мне известно, официально ее руку никому не обещали. Надо полагать, именно ей Гринфилд разрешил посещать Оксфорд – одна из его дочерей проходит обучение у Раскина.
Значит, женщина нового типа – женщина с собственным мнением. Синий чулок.
В таком случае прогулки в одиночку и идиотская выдумка про экскурсию вполне могут оказаться правдой. Непонятно лишь, зачем она вырядилась в чудной старый плащ. Люциан поймал себя на том, что водит по нижней губе указательным пальцем, словно отыскивая следы, оставленные ее мягким ртом. Очень мягким. Вкус у нее сладкий, с ноткой чая с сахаром и ароматом дождя. Он и сам пропитался этим запахом – стоило пошевелиться, и тут же вновь пахло розами. Ему следовало понять сразу, что Ренвик на ее счет ошибся – в круглых карих глазах девушки не было ни искушенности, ни лукавства. Или же он это понял и поддался соблазну: после стольких лет Люциана все еще манили драгоценные вещи.
– Гринфилд глупец, раз не держит ее в строгой узде, – заметил он скорее себе, чем Мэтьюсу, но помощник, как всегда, услужливо кивнул.
Видимо, у Джулиана Гринфилда, основателя крупнейшего в Британии банка, принадлежащего одной семье, есть и другие заботы, кроме как присматривать за потомством. У магната сейчас изрядные трудности с портфелем ценных бумаг в Испании – молодой король затеял новую банковскую реформу. Вдобавок несколько лет назад его почти вытеснил из испанского железнодорожного сектора банк братьев Перье. Люциан подозревал, что именно поэтому Гринфилд прислал ему целых два приглашения на деловой ланч, хотя прежде они не встречались. Сам Люциан давно сократил свою деятельность в испанском секторе, за исключением нескольких вложений. Он все еще владел тридцатью процентами акций в железнодорожном концерне «Пласенсия – Асторга», и Гринфилд наверняка об этом пронюхал. Что ж, продажа последних крупных инвестиций в Испании может способствовать успеху его миссии.
– Напомните, Мэтьюс, что еще числится в вашем списке добрых дел?
Помощник напрягся, словно нерадивый школьник, которого вызвали к доске. Иногда тридцатилетний Люциан забывал, что Мэтьюсу – тридцать один. В лучшие для слуги дни хозяин с ним рядом чувствовал себя глубоким стариком.
– Я посоветовал вам не скрывать своего имени, занимаясь благотворительной деятельностью, – напомнил Мэтьюс. – К примеру, без вашей финансовой поддержки больница в Йорке прекратила бы существование. Имя ее покровителя следует обнародовать до конца сезона.
Люциан фыркнул.
– Мое черное имя вряд ли пойдет больнице на благо.
– Именно поэтому я так тщательно подобрал подходящие пункты: поскольку помощью заведения пользуются лишь неимущие, разве станут сильные мира сего возражать?
Не станут, ведь им плевать на больницу, которая лечит отбросы общества.
– Ладно, – кивнул Люциан. – Раскрой мое имя.
Мэтьюс выглядел довольным. Похоже, список заметно сократился после отмены визитов в галерею и тому подобных мероприятий. Вернувшись в Белгравию, он наверняка уйдет в свою комнату и будет наигрывать на флейте одну и ту же мелодию, как делает всегда, чтобы успокоить нервы.
Подход Мэтьюса не лишен смысла, однако Люциан подозревал, что тот окажется неэффективен и принесет одни хлопоты. За последние месяцы он и так изменил своим привычкам – продал несколько векселей менее одиозным кредиторам, чем он сам, и даже простил один долг – поступок с его стороны совершенно беспрецедентный. Пока это не принесло никаких плодов вроде приглашения в кулуары министерства финансов.
– Сэр, кое-что может оказать на вашу репутацию незамедлительное и благоприятное воздействие, – проговорил Мэтьюс.
– Я весь внимание.
Помощник смотрел скорее в точку рядом с его плечом, нежели в глаза.
– Перестаньте мучить графа Ратленда.
При звуке ненавистного имени грудь Люциана будто сковало льдом.
– Ни за что, – негромко проговорил он.
Губы Мэтьюса побледнели, и Люциан вновь посмотрел в грязное окно. Подобные хлюпики с их чертовыми сантиментами действовали ему на нервы. Впрочем, он готов был поспорить, что Мэтьюс тоже питает к нему неприязнь. Четвертый сын барона, Мэтьюс занимал в иерархии пэров самое низкое положение и прозябал в благородной нищете, однако считал себя человеком высшего сорта. Он упрямо придерживался аристократических привычек и носил жилет, сюртук и брюки разных цветов, и на его шарфах красовался семейный герб. Он вставлял негромкие замечания на латыни, а его длинные тонкие пальцы в жизни не держали ничего тяжелее чертовой флейты или колоды проигрышных карт. Мэтьюс ненавидел выполнять приказы такого выскочки, как Люциан, хотя тот и вытащил его из вонючей камеры в долговой тюрьме.
С большими проволочками они наконец добрались до резиденции в Белгравии. Кабинет встретил Люциана прохладной тишиной – побочный результат заложенных кирпичом окон. Лампы на стенах ожили, залив тускло-желтым светом краски персидских ковров и стопки научных журналов, высившихся почти до потолка. Газовое освещение давало слишком мало света, к тому же изрядно коптило. Люциан подошел вплотную к огромной экономической карте во всю восточную стену, чтобы разобрать цвета нитей, отмечавших финансовые потоки Европы и восточного побережья Северной Америки. Он напрасно портит зрение, изучая свои сделанные убористым почерком записи и вырезки по вопросам британского налогообложения, которые крепятся булавками к стене позади письменного стола. Как только новые лампы и электрические провода Эдисона докажут свою безопасность для использования в помещениях, он мигом избавится от газового освещения в собственных домах.
На данный момент самая его насущная проблема – дочь Гринфилда.
Люциан присел на край стола, глядя на карту. От булавки с именем Гринфилда исходили дюжины нитей, означающие займы, акционерные капиталы и доходы, и устремлялись в разные страны, организации и отрасли промышленности. Общая картина подтверждала, что в Испании позиции Гринфилда пошатнулись. Без контрольного пакета акций одной железнодорожной компании его ждет утрата лидерства на рынке. А дельцы вроде Гринфилда не привыкли быть на вторых ролях.
В комнате повисла гнетущая тишина, нарушаемая лишь далеким завыванием спертого воздуха в вентиляционной шахте. Люциан мог бы продать Гринфилду свои акции, но тогда банкир тут же утратит к нему интерес. Узы деловых отношений непрочны – на них можно рассчитывать только в краткосрочной перспективе. Поэтому он игнорировал приглашения на ланч: они давали лишь место за столом, и пока он не знал, как этим воспользоваться. Конечно, место за столом важно. Люциану потребовалось много времени, чтобы понять: одного богатства для достижения целей недостаточно. Деньги – совершенно иной зверь, чем власть. Власть удерживают в своих руках высшие слои общества, надежно затворившиеся в неприступной крепости, чьи стены слагают совместная учеба в Итоне, Оксфорде и Кембридже, брачные союзы и наследственное право. Политика творится в кулуарах, после обедов, во время поездок по Европе для завершения образования. Несмотря на осыпающиеся фамильные замки и убыточные поместья, деньги в этих узкородственных кругах ценятся ниже имени и связей. Впрочем, Джулиану Гринфилду удалось просунуть ногу в дверь. Через сотню лет после того, как его семья перебралась в Британию, их деньги больше не считались новыми, а земельные владения – награбленными.
Люциан вернулся к письменному столу и взялся за перо. В эти священные круги существует и совершенно иной путь. Подробности плана еще не оформились, но мускулы уже напряглись в решительном нетерпении, предшествовавшем всем его выигрышным вложениям. Сделаем ставку на мисс Джонс!
Глава 4
Раскин был прав: «Персефона» и в самом деле прелестная.
Осознание пронзило Хэтти вскоре после начала урока, и она отпрянула, лихорадочно оглядывая картину. Мягкое царапанье кистей по холсту и шаги Раскина между мольбертами слились в сплошной гул. Как она раньше не заметила? Мускулистая рука Аида обхватила Персефону за талию и тащит с цветущего луга в подземный мир, на лице девушки ужас, но это какой-то вежливый ужас… При ближайшем рассмотрении видно, что динамика тела Персефоны – весьма сдержанная. Разве так сопротивляется женщина, подвергаясь насилию?
Хэтти вытерла о фартук вспотевшие ладони. Катастрофа! Она невольно сосредоточилась на том, чтобы на протяжении тяжкого испытания Персефона сохранила правильную осанку. В результате героиня выглядит так, словно ее заботит лишь собственная прическа. Где же неистовство, гнев и подлинность чувств? Из Хэтти явно не выйдет Артемизии Джентилески[1]. Пожалуй, это самая апатичная трактовка сюжета со времен «Похищения Прозерпины» Уолтера Крейна[2].
Горестный всхлип Хэтти привлек внимание всех студентов мужского пола, и она поспешно спряталась за своим холстом. Стоящий справа лорд Скеффингтон оставил свой набросок и смотрел на девушку с любопытством.
– Что-нибудь случилось, мисс Гринфилд? – прошептал он.
Щеки Хэтти отчаянно пылали.
– Ничего. Совсем ничего, – ответила она с деланой улыбкой.
Хэтти поводила кисточкой по небу на холсте, изобразив бурную деятельность. Вскоре интерес к девушке угас, чего не скажешь о ее огорчении. Пять недель работы – и все напрасно, картина получилась бездушной, мертвой.
Во всем виноват поцелуй!
За три минувших дня воспоминание о губах Блэкстоуна ничуть не померкло. Наоборот, грезя наяву днем и ложась спать ночью, Хэтти бесстыдно воспроизводила мимолетный контакт снова и снова и теперь так его приукрасила и дополнила мелкими подробностями, что из скандального инцидента тот превратился в яркое, чувственное событие. На самом деле забывать Хэтти не хотелось: несколько белых пятен на карте ее повседневной жизни стали цветными, и теперь она могла включить ощущение теплого рта Блэкстоуна во все любовные романы, которые поглощала без счета. Раньше ее представления о поцелуях ограничивалась прикосновением собственных губ к тыльной стороне ладони. Наконец-то до нее дошло, чем наслаждаются ее подруги Аннабель и Люси с тех пор, как соединились со своими сужеными. И еще девушка поняла, что испытывает та, на кого набрасывается повелитель подземного мира, – потрясение, неверие, возбуждение, смущение. Сама она отвесила наглецу пощечину, не задумываясь. В «Персефоне» этих чувств нет и в помине. Благодаря поцелую Блэкстоуна Хэтти осознала, что ее картина – насквозь фальшива.
Девушка повернулась к лорду Скеффингтону.
– Милорд… – хрипло начала она.
– Мисс Гринфилд. – Он опустил кисть и посмотрел на Хэтти.
– Как вы думаете, возможно ли стать хорошим живописцем, не имея личного опыта?
Высокие брови лорда удивленно изогнулись.
– Хм. Трудности с картиной?
– Нет-нет, мой интерес чисто академический.
– Ясно. Вопрос философский.
– Отчасти да. Так вот, насколько необходим художнику личный опыт в том, что он описывает, чтобы получилось истинное произведение искусства?
Лорд Скеффингтон фыркнул.
– Размышлять о вещах возвышенных перед обедом – увольте!
Его улыбка заставила Хэтти ненадолго забыть о своих невзгодах. Лорд очарователен! В залитой солнцем комнате его пышные золотистые волосы обрамляют лицо, словно нимб. Губы розовые, тонко очерченные – будь он девушкой, подобный ротик сравнили бы с бутоном розы. Именно таким Хэтти представляла своего любимого персонажа Джейн Остин, мистера Бингли, и потому их соседство во время занятий вовсе не было случайным.
– Давайте-ка подумаем. – Лорд приложил палец к подбородку в притворном раздумье. – Многие художники классической школы ни разу не видели греческого бога во плоти. Поэтому могу вас уверить, мисс Гринфилд, для создания восхитительной картины личный опыт вовсе не обязателен!
Хэтти замялась. Неужели он и правда считает, что цель искусства – быть восхитительным?! Однако Скеффингтон выглядел таким довольным своим ответом, да и остальные студенты снова переключились на них, как муравьи устремляются к свежей туше… Сегодня это выводило девушку из себя. Молодым людям потребовались долгие месяцы, чтобы перестать шептаться и глазеть на нее во время лекций. Общий курс рисования профессора Раскина был открыт для широкой публики – туда принимали без лишних церемоний и мужчин, и женщин, но посещать лекции по истории актуального искусства?! Неслыханно! Потом она, чего доброго, захочет голосовать. На самом деле Хэтти хотела. А разрешить женщине брать курс академической живописи в художественной галерее? Возмутительно, даже несмотря на сопровождавшую Хэтти тетушку, которая ходила за ней как приклеенная. Сейчас та мирно дремала в плетеном кресле, пригревшись на солнышке, и была не в том положении, чтобы испепелять нахалов взглядом.
Хэтти мельком посмотрела на свою «Персефону» – такую скучную и откровенно скучающую, и у нее свело живот.
– Видите ли, – прошептала она лорду Скеффингтону, игнорируя любопытные уши, – некоторое время назад я прочла одно эссе Джона Дьюи. Он утверждает, что произведение искусства считается таковым, лишь если в результате рождается общечеловеческий опыт, то есть идет общение между работой художника и зрителем. Иначе это просто объект.
Его светлость захлопал глазами – вероятно, Хэтти говорила слишком торопливо.
– Существует некое узнавание, – снова попыталась она, – между художником, чье искусство воплощает универсальный опыт, и личным опытом наблюдателя. Момент встречи двух разумов, так сказать.
– Дьюи, Дьюи… – вежливо протянул лорд Скеффингтон. – Знакомое имя. Случайно не американец?
– Да.
– Вот как! – Уголки его рта поднялись. – Американцев порой посещают странные идеи.
Странные?! Для Хэтти объяснение звучало правдоподобно. При ограниченном опыте она вполне способна создать нечто восхитительное, но разве оно трогает за душу и похоже на правду? Если твоя душа воплотилась в женщине из высших слоев общества, то тебя держат на коротком поводке. Любопытные мужчины могут черпать вдохновение прямо из своего непосредственного опыта, из мест с дурной репутацией или из дальних поездок, которые для нее немыслимы. Известные современные художницы вроде Эвелин де Морган или Мари Стиллман происходили из семей художников или же учились в Париже. Кроме того, изначально предполагается, что мотивы женской живописи примитивны. Хотя Хэтти с удовольствием носила платья с оборочками и зачитывалась любовными романами, в искусстве ей хотелось достичь иного – чего-нибудь исключительного.
Лорд Скеффингтон подошел к ее картине.
– Что ж, прекрасная работа. Хорошая техника лессировки. Вы вроде бы собирались выставить ее на семейном приеме?
Хэтти мысленно простонала.
– Да, на матинэ[3] на следующей неделе.
В родительскую резиденцию на Сент-Джеймс явится дюжина влиятельных лиц с женами и останется на ланч. Хэтти уже решила, что лучше не выставит вообще ничего, чем такую картину.
– Для матинэ как раз подойдет, – заметил лорд Скеффингтон. – Хотя сюжет вы опять выбрали мрачный.
Она сдержанно улыбнулась.
– Мрачный? Опять?
– Похоже, мисс Гринфилд, вы питаете слабость – как бы это назвать? – к жестоким сценам.
– Я бы так не сказала…
– Мне вспомнился ваш Аполлон, выслеживающий Каллисто.
– Ах да.
– Затем, в начале прошлого семестра, вы писали «Похищение Кассандры».
– Между прочим, это один самых популярных сюжетов древнегреческой мифологии!
– Я всего лишь делюсь своими наблюдениями, – мягко проговорил лорд Скеффингтон.
Похоже, он прав. В прошлом семестре Хэтти написала Елену Троянскую, свою лучшую работу, но опять же, в ее интерпретации Елена стоит посреди дымящихся руин разоренного города, и у ее ног лежат поверженные Парис и Менелай.
– Разве есть в Античности хоть один сюжет, лишенный жестокости?
– Как насчет танцующих нимф? – напомнил лорд Скеффингтон. – Или Деметра с рогом изобилия, ухаживающая за полями? Или Пенелопа, ткущая полотно? Все эти сюжеты вполне благонравные и подходящие.
То есть подходящие для женщины-художника. Хэтти встала на дыбы.
– Думаю, Аид был в отчаянии, – кротко проговорила она, ибо не следует в порыве гнева огрызаться на ходячее воплощение мистера Бингли. – Сидит один в темноте, окруженный смертью, – это кого угодно вгонит в тоску! Ему понадобилась компания, живая душа рядом.
Лорд Скеффингтон поцокал языком.
– Придумываете оправдания для злодеев, мисс Гринфилд? Возмутительно! Хотя нежное женское сердце, полагаю, ищет хорошее даже в самом низменном человеке, включая, – он театрально воздел красивые руки, – властителя мертвых.
Он снова фыркнул, и Хэтти улыбнулась, чуть покраснев от приложенного усилия.
Во время краткой прогулки от бокового входа галереи до комнат в Рэндольф-корт, где они жили в течение семестра, тетушка пробудилась окончательно и принялась нудить.
– Молодой лорд Скеффингтон весьма нахален, – зычно протрубила она, заставив Хэтти поморщиться. – Видела я, как он отвлекал тебя от работы своей болтовней.
Она замедлила шаг, взяла Хэтти под руку, и от нее пахнуло тяжелым ароматом французских духов. Теперь дамы надежно блокировали узкий тротуар, не давая пройти другим прохожим.
– Тетя, он беседовал со мной о живописи.
Тетушка приставила ладонь к уху.
– Что ты сказала?
– Он просто поддерживал разговор! – проревела Хэтти. Мистер Грейвс, пренебрегаемый обеими леди охранник в сером пальто, трусил следом с покорным лицом, невольно слыша каждое слово. Слух у тетушки был весьма загадочный: таинственным образом слабел или усиливался в зависимости от того, хотела та что-нибудь услышать или нет. Однажды Хэтти застала тетю беседующей с подругами вполголоса.
– Вот как, – заметила тетушка и взмахом трости вытеснила на дорогу джентльмена, пытавшегося втиснуться на тротуар. – Они всегда начинают с разговоров, по крайней мере, так было в мое время. Затем настаивают на совместной прогулке.
– Мама пришла бы в восторг, предложи он нечто подобное.
– Что?
– Я сказала: мама пришла бы в восторг!
– А! Какой-то он щуплый, тебе не кажется?
Щуплый? Для джентльмена, занимающегося живописью, лорд Скеффингтон обладал вполне приятным телосложением. Кроме того, его внешность едва ли имела значение: папа выдал Флосси замуж за неуклюжего голландского текстильного магната, и мама подыскивала для оставшихся дочерей кого-нибудь с титулом. А поскольку до конца лета Мина ожидала предложения всего лишь от рыцаря, задача заключения брачного союза с представителем голубых кровей целиком легла на плечи Хэтти. Вообще-то она мечтала выйти замуж за аристократа. Внешность лорда Скеффингтона казалась Хэтти идеальной: белокурый, статный, чуть старше ее самой. У них впереди еще много лет, которые муж сможет позировать ей в качестве белого рыцаря…
– Берегись! – Тетушка дернула ее за руку, и Хэтти резко остановилась.
Хотя они уже подошли к переходу у Рэндольф-корт, до следующего экипажа было еще далеко.
– Вечно витаешь в облаках, – пробормотала старушка. – Когда-нибудь это доведет тебя до беды.
Хэтти похлопала хрупкую руку тетушки.
– Все будет хорошо, ведь ты за мной приглядываешь.
– Хм. А почему ты хромаешь?
Потому что растянутая лодыжка продолжала служить Хэтти болезненным напоминанием о глупой вылазке в Лондон.
– На лестнице поскользнулась. – Необходимость выкрикивать ложь все только усугубила.
– Вот и не торопись, – назидательно заметила тетушка. – Полагаю, его светлость следует пригласить на обед. Завтра же!
– Завтра – слишком скоро, тетя. К тому же обед будет семейный.
– Ладно, тогда мы попросим твою матушку отправить лорду Скеффингтону приглашение на более торжественное мероприятие, и чем скорее, тем лучше.
Тетушка подождала, пока они пересекут улицу и войдут в прохладный, гулкий холл Рэндольф-корт, и спросила:
– Ты знаешь, что при крещении его нарекли Клотверси?
Хэтти знала. Теперь об этом узнал еще и персонал отеля за стойкой регистрации, и мистер Грейвс, и несколько ошарашенных гостей, мирно беседовавших друг с другом на диванчиках возле камина.
– Да, – проревела тетушка, направляясь к лифту. – Клотверси, как и покойный отец. Между прочим, деда тоже звали Клотверси.
– Ясно…
– Пожалуй, стоит узнать об этом прежде, чем отправим приглашение. Женщине следует тщательно подумать, желает ли она быть увековеченной в анналах длинной череды Клотверси Скеффингтонов. Сына твоего тоже назовут Клотверси – ребенок язык сломает. Ты могла бы звать его по-домашнему – Клотти.
Хэтти досадливо поморщилась и украдкой посмотрела по сторонам. Так и рождаются слухи. Молодой женщине они могут доставить ужасные неприятности, и Хэтти очень хотелось этого избежать. Недавняя экскурсия закончилась поцелуем с мерзавцем, поэтому в обозримом будущем девушка решила вести себя безупречно. Мистер Грейвс точно оценит, подумала она, глядя, как охранник прошмыгнул в апартаменты, чтобы выполнить обычный обход и убедиться, что в их отсутствие туда не забрались похитители. Грейвс предпочел сохранить свое рабочее место у Гринфилдов и не стал докладывать об исчезновении Хэтти, но вряд ли так будет всегда.
В гостиной она бросила тяжелую сумку на диван у камина и со вздохом потянулась. Тетушка скрылась в одной из боковых комнат, и Хэтти подошла к ближайшему окну, желая немного передохнуть. Апартаменты выходили на оживленную Магдалена-стрит, и со второго этажа она могла сколько угодно безнаказанно наблюдать за чужими жизнями. Сегодня взгляд Хэтти беспокойно блуждал по тротуару. В живописи она стремилась к результатам скорее выдающимся, чем к приемлемым, и эту мечту породило не только честолюбие, хотя девушка все еще переживала из-за своего фиаско с «Персефоной». Рисование не требовало обычных навыков, необходимых для достижения успеха в письме или арифметике. Хэтти не могла написать ни строчки, не наделав ошибок, и не могла списать пример, не поменяв цифры местами. Сегодняшний день стал очередным болезненным напоминанием. Дело не в глазах, хотя отчасти это похоже на слепоту особого рода, заключил несколько лет назад последний в длинной череде докторов, когда Хэтти не удалось исправиться, несмотря на строжайшие выговоры учителей. Отец был потрясен. Если дело не в глазах, то виноват мозг? Неужели что-то не так с ее головой? Неужели из его чресел вышел тупоголовый наследник – Гринфилд, не способный заниматься капиталовложениями?! Разочарование отца ранило Хэтти сильнее, чем линейка учителя, наказывавшая за письмо левой рукой и за бесчисленные ошибки. Хэтти натирала мозоли на пальцах и падала духом, пока не отыскала свой талант в яркой палитре красок. И все же сегодня в галерее ей вспомнились слова отца.
– Хэрриет! – окликнула тетушка из соседней комнаты. – Я хочу сыграть в бридж.

