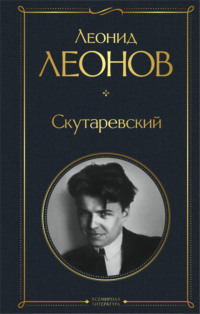
Скутаревский
– Пока мне нечего давать. Я ищу, и я не шарлатан…
– Ваш отец, мне передавали, был портной? – непонятно спросил тот, третий.
– Он был скорняк, – шумно вздохнул Сергей Андреич. Наступила пауза; человек в военной форме принес пачку перепечатанных на машинке бумаг, но, прежде чем взяться за них, Ленин распорядился, чтобы временно никого сюда не пускали. И пока он бегло просматривал их, черкая или делая отметки на полях толстым синим карандашом, огляделся. Большая, во всю стену, висела десятиверстка бывшей империи. Карта была старая, на добротном миткале, годная хоть столетия провисеть в прежнем российском департаменте. Но вот ее беспощадными карандашами расчертили на фронты, округа, энергетические бассейны, прокололи в тысячах тех самых точек, где и в действительности прикоснулись к телу России небрежные, подкованные сапоги интервентов или свирепые плуги революции.
…перпендикулярно к длинному, для небольших заседаний, столу находился другой, поменьше, и понравился придирчивому Скутаревскому чрезвычайный на нем порядок. Только теперь он заметил: в углу стола стоял стакан чаю – в нем еще не растаял сахар, и лежал белый, уже забытой формы хлебец с сыром. Редкостное для того времени угощенье подчеркивало значительность беседы и служило одновременно как бы границей, за которой стояло – не свой. И хотя он понимал, что именно так и обстоит оно на деле, профессора обидела эта подчеркнутая любезность; она толкала его на сухую и краткую вежливость; в конце концов, его даже тешило, что случайно он оказался в сюртуке для такой знаменательной беседы.
– Вам предлагали пост в правительстве июньской буржуазии?
– Да. Я отказался.
– Это делает честь вашей политической проницательности! – тонко и – показалось Скутаревскому – хитро сказал тот, третий.
– Да нет… просто кадетов не терплю! – И если бы проанализировал себя теперь, то среди причин отыскал бы непобедимое отвращение к тем, кого обогащал многие годы. – Миру сегодня клистирами не поможешь.
Это была кульминационная точка разговора.
– Значит, вы разделяете и средства, которыми мы боремся?
– Да, но… – Они слились в один звук, в новое понятие, эти две противоречивые частицы. – У меня имеются кое-какие сомнения…
– Вот видите, – весь подаваясь вперед, засмеялся вождь, и чуть скрипнуло под ним камышовое сиденье стула. – Если бы вы были свой, наш, у вас не было бы никаких сомнений!
И вдруг, минуя все переходы, он спросил Скутаревского, в чем испытывает тот нужду для скорейшего и успешного завершения работы. Он задал вопрос и, точно предвидя декларации гостя, откинулся поудобнее на спинку стула, засунув большой палец за плечевой вырез жилетки. Лампочка телефона несколько раз вспыхивала на столе, и только в первый раз Ленин посмотрел на нее чуть вопросительно и не взялся за трубку. Профессор начал спокойно, сообщением той великой технической идеи, которая оправдала бы и еще большую резкость. Он расходился по мере того, как вспоминал обиды, нанесенные науке; кожаное кресло, где он сидел, раскаляло его, как печь; сюртук душил этого требовательного ремесленника. Его речь смахивала на декларацию, которая местами переходила в браваду… Лаборатория при техническом училище, где приютился он с учениками, стала ему тесна. Дорогие опытные трансформаторы стоят прямо на открытом воздухе, не защищенные даже навесом. Городская станция не отпускает потребного количества тока и зачастую выключает без предупреждения. Нет ни литературы, ни самых насущных измерительных приборов. «Мы принуждены мастерить свои аппараты на деревянных гвоздях…» Сотрудники голодают, и еще недавно один из лучших его учеников был арестован за мешочничество. Наука дичает, становится на четвереньки, и, конечно, со временем потребуются новые Франклины и Вольта, чтоб сдвинуть с места застрявшую колымагу… Ленин слушал, улыбался и постукивал карандашом так, словно пробовал крепость его отточенного синего жала. А распалялся, чуть не опрокинул чай, бубнил, гремел, забывая год, сквозь который проходила страна. Двое по ту сторону стола не прервали его ни полусловом; оба знали приблизительный спектр тогдашних настроений интеллигенции; воззрения даже лучшей ее части можно было бы выразить формулой: благословляю тебя, громила, ибо громишь дом, не милый мне… И тогда-то все обернулось по-иному. Ленин предложил построить новый, со своей собственной подстанцией институт, специально для работ Скутаревского и его немногочисленных учеников. Сергею Андреичу предоставлялись выбор места, оборудованья, составление эскизного проекта и даже самая смета. Неожиданная щедрость потрясла ученого; взволнованный, он встал и снова сел. Потом он поднялся уходить, и, странно, уходить ему отсюда не хотелось.
– …кажется, я вам тут сукно прожег на столе, – заметил он, неодобрительно глядя на сгоревший окурок.
– Ничего, – засмеялся Ленин и прибавил, когда был уже на пороге: – У нас сейчас плохо с одеждой, но мы приложим все возможные усилия достать вам костюм полегче.
В суматохе чувств так и не понял шутки.
Неписаный их договор исполнялся до щепетильности точно: через три дня молодой военный человек доставил Скутаревскому костюм, но он был какой-то непозволительно клетчатый для ученого и не по росту короток; впоследствии его отдали носить вернувшемуся Сенику, который сразу принял в нем какой-то стрекулистский оттенок. Потом, после двухмесячной беготни, бессонных ночей и бесконечных заседаний, сразу наступила толчея подстегнутой стройки. Жил на стройке и, по преувеличенным рассказам, так и спал в сапогах. Безотличный от прорабов, он следил сам даже за кладкой. У него выросла тропическая, густого кирпичного отлива борода. И одно только ему давалось в меньшем совершенстве – искусство ажурного русского загиба… Когда иссякали материалы или бастовали оголодавшие строители, он звонил по телефону, номер которого благоговейно запомнил на всю жизнь. Работа была засекречена, а вместе с нею и сам Скутаревский; за границей думали, что он умер. И правда, эпоха взметнула иные имена – организаторов, полководцев, трибунов. Слава Сергея Андреича звучала надтреснуто, и главная выгода этого заключалась в возможности работать в полном уединении. Химера воплощалась в широкую квадратную башню, почти копию амперовской лаборатории в Женевилье, но с теми улучшениями, которые подсказал сименсштадтский опыт. Все оборудование шло из-за границы. Сквозь окопы войны и рогатки блокады сюда привозили осциллографы, – тогда еще совсем новинки, зеркальные гальванометры, редчайшие компараторные аппараты и те высоковольтные, до миллиона вольт, трансформаторы, которых в ту пору не имели еще и немцы. В плюгавые окрестные флигельки, очищенные от всякого кладбищенского населения – неподалеку находилось староверческое кладбище, – вселили сотрудников будущего института, и в голове Скутаревского уже роились планы о создании целого научного городка на этом могильном месте.
В этот год он жил грубо, всемерно уплотняя свой день. К нему перестали ходить, даже Штруф не просачивался дальше кухни; Сергей Андреич виделся только с сотрудниками, но ни Ханшин, ни Геродов не могли бы похвастаться близостью с ним. Несколько ближе, да и то лишь впоследствии, он сошелся с Черимовым. У молодого и старого не замечалось ни в чем особых расхождений, но примечательно, что и при свиданиях с Петрыгиным, очень редких правда, дело обходилось без больших столкновений. Вряд ли то была взаимная деликатность или боязнь Скутаревского, о котором кто-то пустил злостные слухи, или, наконец, уважение к старой дружбе. Она исчерпалась сама собою, потому что, как это всегда бывает, приятели узнали друг друга до ненависти четко.
Случилась, однако, полудетская на даче, за ужином, схватка, не стоившая упоминанья, если бы ею не был нанесен последний незаживляемый шрам их прежней близости. Вечер был тихий, прозрачный, как бы на паутинке нарисованный. В открытую дверь доносилось яростное щелканье бильярдных шаров. Дело началось со скуки, хоть и винишко торчало на столе, а от анекдотцев желчная отрыжка оставалась на губах; дело началось с разногласий в суждениях по поводу второго закона термодинамики. По существу, каждому было наплевать – кончится или не кончится через мириады лет бессмысленное звездное круженье, и нужно было застарелое раздражение одного и другого, чтобы бывшие приятели наделили простую математическую фикцию, интеграл особого вида, такой живою образной плотью. Сергей Андреич отстаивал формулу Милликена о космосе, извечно обновляющемся изнутри себя; за Милликеном стояли монументально и Гераклит и Джордано Бруно. Точку зрения Петрыгина, который держался пессимистической доктрины Клаузиуса, он считал вредной и даже нигилистической. Он не желал верить в тепловую смерть этой великолепной машины не только потому, что там, на пороге конца, маячили безумные призраки покоя и, следовательно, начала и, следовательно, кого-то Третьего, стоявшего вне суммы элементов мира; он не собирался опровергать ортодоксального богословия, он только верил в сокрытую от него изворотливость протона, во всяческую молодость, в тот лучистый могучий вихрь, который представляет собой Вселенная. Петрыгин глядел тускло и грустно: пессимизм его увеличивался и рос по мере увеличения сахара в моче – и все-таки посмеивался.
– Ох уж эти мне диалектики! – примирительно вскричал он, перегибаясь через стол и подливая Скутаревскому красного винца. – Они воюют против перпетуум-мобиле здесь, на земле, чтоб охотно и полностью приписать его вселенной. Сергей Андреич, брось, стыдись… ты же русский человек, куда тебе в марксисты!
Жены их не принимали участия в споре; одна думала в эту минуту, что Петрыгин состарился вдвое быстрее своего приятеля, другая о том, сумеет ли достать хорошие обои для предстоящей переклейки квартиры. Но обе поняли, что имена и идеи – только первые попавшиеся ножи, которые пришлись по руке этим двоим, из одного поколения, по-разному, но уже смертельно раненным людям.
Петр Евграфович имел право посмеиваться; он сидел тогда на видном месте, откуда разбегались нити управления по целому сектору электрификации. Высокое, хоть и незаметное положение доставляло ему тем в большей степени душевный покой. В свое время он уходил по забастовке из профессорской карьеры, но его вдруг вызвали, упрашивали принять новую должность, и он успел согласиться в ту самую секунду, когда уговаривающие уже собрались махнуть на него рукой. Из своего кожаного, почти госплановского кресла он с любопытством взирал на зловещую высоту, где пока еще уверенно балансировал его зять. И теперь, встретясь в бане, он с великим биологическим интересом наблюдал этого голого человека, жилистого и подвижного, будто весь начинен был пружинками.
Тот продолжал стоять, точно зазорно ему было сидеть рядом с шурином своим.
– Вот ездили принимать Арсеньеву станцию. Кстати, кто пропускал проект?
– Как и все ему подобные, проект проходил через мои руки, через Энерготорф. А что… – И раздумчиво глядел в угол, где эшафотно, в постоянных сумерках, возвышался полок.
– Я опротестую эту станцию, – резко бросил Сергей Андреич. – Я ее, к чертовой матери, опротестую…
Петрыгин лениво шевельнулся; он вовсе не отказывался от беседы, потому что не отпотел еще положенного срока, но требовал соблюдения хотя бы тех внешних приличий, к каким обязывало их общественное положение. Угроза Скутаревского рассмешила его; станция уже пошла в эксплуатацию, пускай – в силу затраченного капитала, а Сергей Андреич слишком отошел от строительной практики дня, которую сурово корректировала вздыбленная советская экономика. В тот период вся технология материала и людей подвергалась пересмотру, и при этом, например, неожиданно обнаружилось, что человек всегда может больше, чем ему приказывают. И он улыбнулся с той великодушной ласковостью, с которой сильнейший из двух прощает другу его непредумышленную дерзость.
– Ты повышаешь голос… и даже вид у тебя стал какой-то полотерский. Это значит, родной мой, тебе надо в отпуск. Нельзя до такой степени пренебрегать своим здоровьем. И потом, знаешь ли, глухого песней, а большевиков работой не удивишь!
Он замолчал, прислушиваясь к гулкой банной тишине. Где-то за полком капля за каплей заунывно и звучно падала охлажденная вода. И опять Петр Евграфович посмеивался, потому что нет ничего глупее ссоры двух пьяных и голых людей.
Глава 6
Он знал твердо, что когда-нибудь упадет, и самая высота определит силу падения. По-видимому, из лучших родственных побуждений он решился заблаговременно спасать племянника от последствий неминуемой катастрофы; падая, мог увлечь всех стоящих поблизости. Крепкая и вряд ли только родственная связь между дядей и племянником стала очевидна Сергею Андреичу на примере сибирской электростанции; Петрыгин с его многолетним опытом не мог не видеть чудовищных промахов Арсеньевой работы. Когда на обратном пути Скутаревского постигли некоторые грустные догадки, он решил поближе сойтись с сыном, чтобы разглядеть и оценить его по справедливости. В семье Арсений Сергеевич жил особняком; отец не любил к кому-либо навязываться на дружбу, тем более к сыну; Арсений также не страдал откровенностью, мать же попросту не смела расспрашивать любимца. Отец и сын, живя в одной квартире, встречались не чаще раза в неделю. Их краткие беседы всегда отличались шутливой любезностью; Сергей Андреич никогда не вдумывался в смысл подчеркнутой осторожности молодого Скутаревского. И когда недобрые слухи доходили до отца, ему, по его загруженности работой, выгоднее было считать их просто сплетнями.
Сергей Андреич жил трудно. Втайне он стыдился своей славы. Ему хотелось сделать много, а выходило мало. Его работы были ничтожны в сравнении с задуманным, потому что – так ему казалось – всякий исписанный лист – только испорченный лист. В жизнь он ворвался, как грабитель, жадный и неуступчивый, хватаясь за все, и только много позже растерялся от представившегося ему изобилия. Тогда он решил, что растерянностью этой и сигнализирует о себе приближающаяся старость. Вместе с тем он знал, что недоступное его косноязычным формулам осуществимо уже потому, что об этом мечталось именно ему, Скутаревскому. Так, эгоистически выделяя себя из непрерывного человеческого потока и живя как бы воспоминаньями будущего, он завидовал своему не очень отдаленному потомку, который без усилий достигнет всего, над чем бесплодно корпел он сам. В такие-то часы и гнусавил на все четыре этажа его фагот; тогда-то, после долгого промежутка, он и вспоминал о сыне.
Как часто, возвращаясь с работы, он заходил в детскую комнату и шикал при этом на огромные свои башмаки: безмерно важное существо покоилось в крохотной белой кроватке. Подолгу, до головокружения, стоя в темноте, он слушал ровное дыхание спящего ребенка. Это был сын – громадное слово, налагающее больше ответственности, чем друг, сильнейшее, чем единомышленник, – он и понесет в будущее, как эстафету, дерзейшие замыслы отца. Со временем новизна впечатления сгладилась, волнение улеглось, и, думая о сыне, уже не испытывал страха перед лотерейной неизвестностью судьбы. Мальчик часто болел, его капризами держался распорядок дома, и когда Сергей Андреич увидел его однажды при дневном свете, ребенок сидел на полу, утомленно поглаживая рдеющие свои уши. Они были петрыгинские, велики и мягки; это стало первым знанием ребенка о самом себе, и еще в детстве, когда этот неуместный росчерк природы приписывали его повышенной музыкальности, он всякий раз ревниво и настойчиво искал уши у приласкавшего его гостя. Музыкантом он не стал, Петрыгины не обладали слухом, а уши остались. Всем обликом своим он напоминал дядю, но когда тот начал уже стареть. От отца к нему перешла лишь молниеносная его вспыльчивость, но без отцовского обаяния, достигнутого годами нужды и работы. На службе он считался передовым инженером; его быстрой карьере способствовало зычное имя его отца. Разумеется, не такого отпрыска ждал себе Скутаревский, и, когда высшая ставка была бита, прежняя надежда выродилась у него в равнодушное любопытство. Ему приходило в голову и раньше, что человек имеет право не походить на ту стандартную модель, которую придумал для него тупой и честный доброжелатель.
Выходя в тот день из института, он смутно помнил, как утром, давая распоряжения по хозяйству, жена обмолвилась о предстоящей вечеринке у сына. Сергею Андреичу показалось занятной мысль прийти незваным и поразвлечься у молодежи. После поломки драндулета никаких иных развлечений ему не оставалось: спектакли и концерты начинались слишком рано. Пирушку сына он представлял себе приблизительно такой же, какие бывали в давние годы студенчества: соберутся, выпьют кислятинки, пошумят про народ и Волгу и разойдутся в умилении о себе и о дивном будущем родины своей. Самая возможность окунуться с головой в собственную юность развеселила его… По дороге домой он купил какой-то рыбы в панцирной кожуре и несколько бутылок знакомого с юности винца. При этом даже кольнула досада, что не захватил с собой Черимова, который давно уже собирался навестить товарища. Поднимаясь к себе в этаж, он из хитрости несколько изменил походку и посдвинул шляпу набекрень, чтоб чересчур трезвым видом не спугивать приподнятого настроения пирушки.
Дверь ему открыла сама Анна Евграфовна; она испугалась его вида и того надтреснутого баса, которым он спросил, тут ли принимают гостей. Она намекнула, что у Арсенья собралась исключительно молодежь, но муж только подмигнул ей, как бы говоря, что он сам не водится со стариками… Кто-то читал нараспев стихи. Вешая свое пальто поверх вороха разной одежды, Сергей Андреич прислушался – он недолюбливал поэтическое племя, в старое время ему доводилось изредка полистать их книжки, и всегда его изумляло, как у них хватает совести воспевать эту громадную российскую пустыню, посреди которой кощунственно лежит разбитое мужицкое колесо, безмерность солончаков, куликов на топях, незадачливую импотентную любовь, ядовитый пепел несовершенных желаний и, наконец, это нищенское уныние северной весны; из книг, далеких от его науки, Сергей Андреич перечитывал только Рабле. С некоторым огорчением он признал по голосу того бледного князца, гимназического Арсеньева товарища, который в каждое свое появленье надоедал ему, бывало, стихами. На свое счастье, Сергей Андреич услышал лишь заключительные строфы, пропетые с такой чрезвычайной интонацией, что становилось даже как-то неловко за эту чрезмерную и непрошеную откровенность:
…женщины наши гаснут,ботинки наши изношены,поэты расстреляны,знамена истлели…Стройтесь, батальоны мертвых,играй поход, барабанщик…Здравствуй, черное солнцеполуденной стороны!Держа вино на вытянутых руках и плохо соображая о происходящем за дверью, он вспомнил одну прогулку с тем самым Брюхе, судьба которого таила в себе такие печальные сюрпризы. Случилось это полгода назад, на майской демонстрации; вдвоем они гуляли по городу, наблюдая бесконечные людские колонны и шепотом обмениваясь впечатлениями. Когда мимо проходил отряд физкультурниц, обтянутых пестрыми спортивными фуфайками, Брюхе защекотал усами ухо Скутаревского: «Новое племя, обратите внимание, и даже оболочки другие. Грудастые-то все какие, тетки, а совсем еще девочки. Икры-то, икры-то какие! Тут уж, батенька, без лирики, без лютни, а все просто, как в инкубаторе…» Было холодно по-майски, еще снег лежал в полях; плотные, голые икры девушек розово светились под солнцем, и этот грубоватый румянец вызывал желчное осуждение старика, который еще в бытность за границей задумывался о сущности коротких юбок, тут же объяснил, что всякий молодой класс, шагающий к победе, обязан выставить именно таких – огромных и грудастых. Он обязан рожать много и бурно, его дети должны быть прожорливы и румяны, его матери – могучи и плодородны. Европейскую моду на плоскогрудых он расшифровал просто: им уже незачем… Брюхе взглянул на него, как на черта. И уж если угасали женщины и замолкали поэты – значит, были они из того Геркуланума, которого очертанья почти утонули под пеплом времени. Минуту он колебался, стоило ли ему вступить в это сомнительное торжество, но дверь распахнулась, и его высокая костистая фигура стала видна всем. Он вошел…
…он вошел, улыбаясь с особой приятностью, что ему всегда плохо удавалось; он даже пришаркивал, чтобы вышло посмешнее. Его присутствие могло нагнать тоску на молодежь, но, по счастью, оказалось, что вся она достаточно зрелого возраста. В просторной комнате, прокуренной до последней пакости, качались какие-то лица, качались на тощих шеях и гудели. Чтец еще стоял в эмоциональном потрясении, пронзительно глядя на широкое блюдо, где остатки колбас и севрюг мешались с окурками. И оттого, что одна распитая бутылка бесстыдно лежала прямо на тахте, рядом с девушкой, в прическе которой замечался прискорбный беспорядок, Сергей Андреич заключил, что явился в самом разгаре вечеринки. Его встретили вопросительным молчанием, а девица громко засмеялась. Сергей Андреич узнал ее, она часто ходила к Арсению; все ее лицо было воспалено, точно обожженное солнцем, и как будто затем лишь было ее лицо, чтобы носить эти непрестанно алкающие губы. Мужчины смущенно привстали, женщины переглядывались. Сидеть остался только один, – откинувшись затылком на спинку кресла, он насмешливыми глазами взирал на смятение гостей. Ясно, он презирал эту пеструю ораву; его совсем заурядное лицо было неподвижно, и только в губах, сломанных тайной издевкой, читалась темная, недобрая путаница. Сергей Андреич дружелюбно поклонился этому рано лысеющему человеку, – так вот оно, это острое, ранящее слово: сын.
– Это мой пай, – развязно произнес Сергей Андреич, складывая покупки на свободный угол стола. Никто не откликнулся ему. – Не помешаю?
– Просим, просим… – сказали несколько голосов, и потом, после паузы, некая личность в роскошных брюках и с головою круглее глобуса пропела искусным петушиным голосом: «Просим!»
– Я прошу вас, садитесь же! – настороженно попросил Сергей Андреич и виновато ждал, пока все уселись на прежние места.
Из приличия назвав себя, он уселся было в дальнем углу комнаты, и тотчас же помянутая личность стала лить желтое вино в стоящий перед ним стакан.
– Я – тамада. В переводе означает распорядитель пира! – И личность поощрительно склонилась.
– …приятно! Профессор, – шутливо отвечал Сергей Андреич.
– Придется выпить, – прогремела личность, на ладони подавая стакан. – Догнать и перегнать…
– Я ведь не пью совсем, – уклонился Сергей Андреич, отставляя колени в сторону, потому что стакан покачивался и вино выплескивалось через край. – Разве уж по-студенчески?
– По-студенчески, – механически повторила личность и, когда Сергей Андреич выпил, очень мелодично, в такт последнему глотку прищелкнула языком. – Теперь вторую.
Сергей Андреич попытался решительно отвести наглую, с пузатыми ногтями руку, в которой покачивалась посудина, но личность не отступала. У нее было круглое плоское лицо, на таких особенно успешно выращиваются бакенбарды; и еще казалось, что, если надеть на него штаны, никто не поймет сначала – в чем шутка. Минутой позже Сергей Андреич вспомнил: этого самого болвана он провалил года полтора назад на выпускных испытаниях. Студент не знал… да, он не знал формулы об электрическом смещении; попутно, рассчитывая на профессорское снисхождение, он посмел упомянуть о близком знакомстве с Арсением. Насколько Скутаревскому помнилось, он провалил его с чувством исполненного долга и даже спросил на прощанье, не болен ли студент малярией: болезнь эту почитал почему-то лодырной. Но вот роли переменились, и…
– Прошу, – повторила личность с равнодушным лицом.
– Но мне нельзя… мне запрещено! чудак вы! – из последних сил оборонялся профессор.
– Тогда с медицинской целью! – бесстрастно сказал глобус, а колено Сергея Андреича слегка подмокло.
Сердито пожевав губами, он выпил вторую и исподлобья огляделся. Гости обступили их кружком, глазея на такое редкостное и даже истории достойное событие. Веселье разгоралось, барышни хихикали. Сергей Андреич чувствовал себя жуком на булавке, которого все тычут пальцами. С непривычки вино ударило ему в голову, и тогда он поймал на себе пристальный любопытный взгляд сына. Обрадовавшись поводу, он кивнул Арсению как бы для установления связи, но тот не изменил выражения глаз и отвел их на какую-то незначительную точку.
– Третью, профессор! – деловито провозгласил тамада, на просвет разглядывая бутылку.
– Вы портите мне брюки, – сдержанно сказал Сергей Андреич, уже помышляя о бегстве.
– А ну, под Омар Хайяма!
И тотчас же, в сопровождении выискавшихся охотников, стал читать заунывно и нараспев что-то не очень членораздельное, но действительно искрившееся восточной, ковровой пестрядью. Там упоминались цветы, улыбки, девушки, и все эти словесные розы раскидывались с такой щедростью лишь затем, чтоб заглушить резкий сивушный запах. Сергей Андреич хмурился; становилось понятно, по какому признаку подбирал себе Арсений друзей. Все они были с какими-нибудь органическими пороками, с неблагополучием рта, носа или ушей, а лица иных и вовсе напоминали безжизненные стеариновые муляжи. Хайям все длился, а глобусный шар покачивался, флуоресцируя, поворачиваясь фазами: так, неожиданно Сергей Андреич увидел Южную Америку, висящую в виде уха. И вот он понял, что непременно промнет кулаком этот назойливый глянцевитый картон, если тот произнесет еще хотя бы слово.

