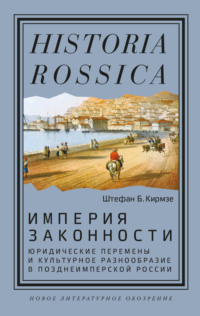
Империя законности. Юридические перемены и культурное разнообразие в позднеимперской России
В то время как промежуточные территории становятся объектом анализа во все большем числе работ, они остаются недостаточно изученными с юридической точки зрения. Существующие работы по Крыму и Казани посвящены постепенному включению этих регионов в состав империи, анализу меняющейся политики в отношении меньшинств, изучению религиозных, особенно мусульманских, организаций и их взаимоотношений с государством, а также взаимодействию и диалогу между центральными, региональными и местными акторами84. Однако, поскольку эти исследования уделяют лишь незначительное внимание правовым вопросам и игнорируют повседневное взаимодействие нерусского населения с государственной судебной системой, они не в состоянии проследить важность правовых институтов для строительства империи и их роль в выравнивании и скреплении разнообразного и глубоко иерархического общества.
Когда в середине 1860‐х годов юристы представляли свой доклад о возможности введения реформированных судов в Крыму и Казани, им, возможно, и в голову не могло прийти создавать специальные правила или институты для нерусского населения. Отчет не содержал никаких этнических или религиозных соображений, кроме общих заявлений о том, что эти два региона культурно неоднородны, и введение окружных судов было рекомендовано без каких-либо оговорок85. Поскольку дискриминация меньшинств была обычным явлением на протяжении веков, а значительная часть нерусского населения империи, особенно к востоку от Уральских гор, оставалась юридически отделенной (см. следующую главу), поразительно, что к периоду Великих реформ казалось бесспорным и даже естественным распространить новую правовую систему на промежуточные территории и предоставить всему их населению равный доступ к этой системе. В данной книге показаны последствия этого выдающегося решения и сохраняющейся двойственности интеграции и дифференциации не только для судебных реформ в России, но и для имперскости России в целом. Хотя я согласен с Валери Кивельсон и Рональдом Суни в том, что царская Россия, как и другие имперские образования, стремилась осуществлять свое правление посредством культивирования различий, а не интеграции или ассимиляции, я утверждаю, что реформированные суды подорвали эту форму управления и стали мощным толчком к достижению большего равенства86. В то же время данное исследование подчеркивает неоднозначность этих событий. Промежуточные территории позволяют проследить конфликт между стремлением к большему единообразию, признанием, даже поощрением различий и сохраняющейся дискриминацией. Хотя в Крыму и Казани усилия по интеграции этнических и религиозных «других» были более значительными, чем в отдаленных приграничных районах, меньшинства продолжали занимать неопределенное положение.
Анализируя споры и преобразования в имперском центре, а также взаимодействие государства и общества в залах суда и деревнях, данное исследование рассматривает ряд вопросов и обстоятельств: замысел и саму идею реформированных судов; принятие новых правил и процессуальных норм в Крыму и Казани; возникшее при этом взаимодействие между различными нормативно-правовыми порядками; организацию и проведение судебных процессов; сложные взаимоотношения между обычными людьми, представителями правоохранительных органов и юристами. Рассматривая политику, правовое взаимодействие и практику обращения в суд, эта книга также проливает свет на ряд более широких исследовательских проблем: право как средство модернизации, право как орудие империализма и право как инструмент интеграции меньшинств. В ней исследуется не только степень, в которой правовые реформы были предтечей введения принципа «верховенства права», основанного на европейских образцах, но и значение возникшей правовой системы для расширения и поддержания имперского правления. Российский историк культуры и социолог Борис Миронов характеризует Российскую империю между 1830 и 1906 годами как «правомерное» государство, то есть еще не «правовое» государство, а государство, в котором закон стал единственным определяющим критерием «преступления» и в котором все права, предоставленные населению, тщательно охранялись все более совершенными государственными институтами87. В последующих главах идея «правомерной империи» подвергается эмпирической проверке, исследуется масштаб и опыт этой «правомерности» среди обывателей в Крыму и Казани.
Несмотря на частое упоминание «позднеимперской России», в этой книге я преимущественно затрагиваю период с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов. О потрясениях, предшествовавших революциям 1905 и 1917 годов и после них, уже написано немало. Корин Годен справедливо отмечает, что гораздо меньше внимания было уделено не столь зрелищным «повседневным контактам между чиновниками и крестьянами на уровне деревни в периоды относительной политической стабильности»88. Три десятилетия после Великих реформ, пусть и относительно, представляют собой один из таких стабильных периодов. В эти десятилетия не обошлось без террористических акций, рьяных поисков настоящих и мнимых революционеров, периодических восстаний и беспорядков на западной и южной границах. Однако за пределами столичных центров и некоторых приграничных регионов основная масса населения была гораздо меньше охвачена политическими волнениями, чем до или после этого периода. В научных трудах революционный пыл 1900‐х и 1910‐х годов, как правило, объясняется нерешенными проблемами и тлеющим недовольством после Великих реформ, и, исходя из этого, никакое обсуждение пореформенных лет не может закончиться их революционной кульминацией. Однако, хотя такая причинно-следственная связь между недовольством и протестом часто подразумевается, доказательства этому весьма скудны. Безусловно, можно полагать, что революция была продуктом деятельности наиболее активных участников политического процесса в некоторых частях империи после 1900 года и что она произошла вопреки относительной стабильности предыдущих десятилетий, а не вследствие глубинных проблем. События, описанные в этой книге, возможно, даже в немалой степени помогли избежать системного кризиса89. Конечно, недовольство было, но, как показывают многие эпизоды из новейшей истории, недовольство не означает революцию. Именно поэтому имеет смысл изучать период с середины 1860‐х до середины 1890‐х годов как самостоятельный, а не как прелюдию к неизбежным потрясениям XX века.
Уделяя основное внимание Крыму и Казани, эта книга вступает в дискуссию об интеграции мусульман в Российской империи. Позицию, высказанную татарским историком Ильдусом Загидуллиным, можно рассматривать как пример аргументации, часто используемой в работах местных ученых, а также в некоторых западных и советских публикациях90. Загидуллин придерживается жесткой дихотомии, согласно которой имперская политика в отношении казанских татар рассматривается через призму антагонистических отношений между империалистическим российским государством и угнетенным меньшинством. Для него пореформенные годы стали продолжением «национального и религиозного гнета» более ранних периодов91. Он отводит ключевую роль в поддержании неослабевающей хватки государства судам, полиции и другим государственным институтам92. По его мнению, новые суды были инструментом порабощения нерусского населения. Историки Айдар Ногманов и Диляра Усманова во многом разделяют эту точку зрения, добавляя при этом некоторую пространственную дифференциацию: в целом, по их мнению, в Казани политика была более репрессивной, чем в Крыму и на более отдаленных территориях93.
Любое противопоставление имперского государства угнетенным меньшинствам маскирует куда более сложную действительность. Татары XIX века испытали на себе широкий спектр политических решений: как в Крыму, так и в Казани центральные и местные власти неоднократно применяли против них насильственные меры, тогда как в других случаях они помогали сохранить мусульманскую идентичность. Роберт Джераси и Галина Емельянова проследили это многообразие политических мер на примере борьбы за власть и разногласий как внутри министерств и других государственных учреждений, так и между ними. Что касается Крыма, то О’Нилл документально подтвердила попытки частично восстановить и преобразовать, а не просто уничтожить местную застройку и окружающую среду, где по-прежнему ощущалось сильное татарское влияние94.
Данное исследование развивает эти аргументы и точку зрения, что мусульмане не жили в консолидированных общинах, обособленных от остального общества. Исследования мусульман в России до сих пор, как правило, были посвящены религиозным и «коренным» институтам; в них обсуждались трансрегиональные и трансимперские связи и сети, но никак не интеграция мусульман в общеимперские институты95. Неудивительно, наверное, что в этих работах подчеркиваются культурные различия. Эта книга, напротив, не посвящена ни мусульманским институтам, ни мусульманской правовой культуре – для этого пришлось бы гораздо подробнее исследовать практику разрешения споров муллами и имамами, а также вопросы неформального урегулирования конфликтов. Здесь речь идет о том, как этнические и религиозные меньшинства взаимодействовали с судами и другими институтами, введенными в 1860‐х годах. При этом подробно рассматриваются отношения, которые нерусское население поддерживало со своими русскими соседями. То, что татары составляли крупнейшее меньшинство, a в Крыму даже большинство населения, объясняет тот факт, что они занимают особое место в последующих главах. С небольшими изменениями, однако, основные аргументы также справедливы для караимов, греков, армян, чувашей, мордвинов и представителей других этнорелигиозных меньшинств.
Рассмотрев, как мусульмане использовали различные правовые институты для урегулирования религиозных споров, Роберт Круз уже предложил своевременное противоядие тезису, что отношения между мусульманами и государством были враждебными96. Однако он также не учел многие временные и региональные различия и таким образом преувеличил значение своих выводов, настаивая на том, что власти сделали ислам опорой имперского общества и что мусульмане стали рассматривать государство как гаранта своих прав97. Натан Спаннаус привел более убедительные аргументы: сосредоточившись на судебных разбирательствах дореформенного периода, он показал, что между мусульманами и российским государством существовали неоднозначные, но тесные отношения98. Данная книга развивает этот тезис и применительно к пореформенным годам. Однако самое главное – в ней утверждается, что взгляд на татар преимущественно через призму их набожности и религиозного воспитания не дает представления ни об их повседневной жизни, ни о многомерности их идентичностей. Жизнь татар в первую очередь определялась тем, что они были крестьянами, землевладельцами, поденщиками или мелкими городскими чиновниками; богатыми или бедными, преступниками или законопослушными, религиозными или равнодушными к религии; они принадлежали к различным этническим, гендерным и возрастным группам. Большинство из них были частью обедневшего сельского населения и не имели средств, позволявших богословам, интеллектуалам и купцам регулярно перемещаться между регионами или даже империями.
Сочетая в себе внимание к вопросам имперского государственного строительства, правам меньшинств и правовой практике, эта книга призвана представить более детальную картину интеграции мусульман в позднеимперское общество. В отличие от большинства исследований российского империализма и национальной политики, она посвящена правовому взаимодействию; и в отличие от большинства исследований правовой практики, она помещает судопроизводство в более широкие рамки культурного разнообразия Российской империи.
СТРУКТУРА КНИГИ
В первой главе представлен общий тематический контекст данного исследования. В ней приводится обзор изменений социальных и религиозных различий в Российской империи с середины XVI до начала XX века, а Великие реформы 1860‐х годов рассматриваются в более широкой исторической перспективе. При этом особое внимание уделяется изменению положения меньшинств, а затем подробно объясняется масштаб и значение изменений, осуществленных в ходе судебной реформы 1864 года. Кроме того, в этой главе обсуждается возникший на значительной территории империи правовой плюрализм – развивающаяся, регулируемая государством сеть судов, а также сельские, религиозные, «обычные» и другие правовые формы. При этом подчеркивается сосуществование и взаимодействие различных правовых культур во времени и пространстве.
Остальные главы книги посвящены Крыму и Казани. Они содержат анализ процесса внедрения новых судов в этих двух регионах, а также их восприятие и реакции местного населения. Поэтому в большей части книги основное внимание уделяется не столичным законодателям, а юристам из небольших городов, чиновникам среднего и низшего звена, а также простым людям, как внутри, так и вне судебной системы. В частности, вторая глава посвящена Крыму и Казани в пореформенный период. В ней не только обсуждаются экономические и демографические траектории этих двух регионов и формы управления ими, но и прослеживается изменение их положения в имперском воображении. В третьей главе рассказывается о введении окружных судов в Казани и Симферополе, уделяется внимание подготовке, внедрению и восприятию новых институтов. Четвертая глава обращается к постановочной стороне правосудия, анализируя устройство пореформенного суда, репрезентацию присутствия монархии и принципы скромности и равенства в суде, представительство меньшинств, а также эффект судебных разбирательств, сказывающийся на присутствующих в зале суда. Особое внимание уделяется воспитательному значению судебных заседаний, призванных превратить участников процесса в «нравственно стойких», законопослушных граждан.
В пятой главе рассматриваются особенности активного использования татарами-мусульманами и другими меньшинствами окружных судов при рассмотрении гражданских и уголовных дел, при этом наиболее яркой формой такого взаимодействия являлось скорее примирение, чем конфликт. Далее, в шестой главе, приводится возражение к этому тезису и разбираются случаи, когда мусульманское население не сотрудничало с государственными институтами, включая судебную систему, полицию и местную администрацию, или даже откровенно сопротивлялось им. Большинство из этих случаев были связаны с земельными вопросами и страхом принудительного обращения в христианство в Поволжье. В Крыму, где угроза насильственного обращения была меньше и где земля была измерена и размежевана раньше, большинство оставшихся споров удалось разрешить в суде к 1870‐м годам. Наконец, в заключительной главе, посвященной «кризисному» 1879 году, когда восстания волжских татар были жестоко подавлены казанскими властями, рассматривается один из случаев, где существующий правовой порядок разрушился и уступил место произволу. Этот пример показывает, что хотя к концу 1870‐х годов формализованное верховенство права приобрело значительный авторитет, ему по-прежнему бросали вызов самодержавные порядки.
ОБ ИСТОЧНИКАХ
Данное исследование опирается на разнообразные источники, включая архивные записи, газеты, мемуары, отчеты и статьи, написанные местными чиновниками и юристами XIX века. В отличие от предыдущих исследований пореформенной правовой системы, которые в основном основывались на трудах известных юристов и министерских отчетах, в данной работе новый правопорядок рассматривается с региональной точки зрения. Поэтому, помимо анализа документов, хранящихся в Российском государственном историческом архиве (РГИА) в Санкт-Петербурге, в книге использованы многочисленные материалы о деятельности местных судов и юридической практике из Национального архива Республики Татарстан (НАРТ) в Казани и Государственного архива Автономной Республики Крым (ГААРК) в Симферополе99. Кроме того, в книге проанализированы статьи местных газет обоих регионов, а также используются публикации в общероссийской прессе.
Хотя региональный подход и предлагает новый взгляд на правовую культуру, опираясь на него, можно составить лишь неполную картину. Концентрируясь на взаимодействии простых людей с государственными институтами, такой подход сталкивается с общей проблемой в исследованиях малых городов и аграрных обществ: большинство источников были написаны представителями элиты, а не народа. Фокус на правовых институтах делает эту проблему еще более острой, поскольку разбирательства и речи в залах суда – и сделанные на их основе записи – отражают существовавшие асимметричные властные отношения, то есть господство одних и подчинение других100. Поэтому использование таких источников – это не просто реконструкция голосов подчиненных. Закон также не является нейтральным и беспристрастным, он всегда выгоден одним и наносит ущерб другим101. Эта проблема также усугубляется тем, что, в то время как данная книга посвящена этническим и религиозным меньшинствам, большая часть архивных документов и публикаций была написана представителями русского большинства102.
По-настоящему удовлетворительных решений этих проблем не существует. Сельские жители – будь то татары, русские или другие – мало что могли сказать о правовых институтах; а поскольку они часто не умели читать и писать, мы узнаем об их действиях и восприятии только в опосредованной форме. Российская элита обычно изображала сельских жителей необразованными грубиянами, враждебно относящимися к государственному законодательству и регулированию. Татарская элита, в свою очередь, игнорировала государственную правовую систему в своих трудах, по крайней мере в рассматриваемый период. Большинство из них были купцами или богословами, занимавшимися исламской мыслью и практиками, а не юристами и журналистами, включенными в обсуждение правовой реформы. Однако то, что мусульманская интеллигенция уделяла основное внимание религии, вряд ли можно считать доказательством того, что мусульманское население волновали исключительно религиозные вопросы. До 1905 года татароязычным изданиям, за редким исключением, не разрешалось затрагивать светские проблемы103. Более того, у татарских интеллектуалов были свои интересы. Им нечего было сказать о повседневных заботах крестьянства, которое составляло подавляющее большинство татар-мусульман в Крыму и Казани. Жизнь сельских жителей не была обусловлена исключительно или даже преимущественно исламскими религиозными институтами и нравственными предписаниями. Несмотря на то что анализ государственных документов приводит к проблеме предвзятости источников, он все же может помочь составить взгляд «снизу», увидеть более полную картину взаимодействия государства и общества, подчеркивающую как противоречия, так и уступки. Хотя источников, на основании которых можно составить представление о мыслях сельских масс, немного, есть множество документов, указывающих на то, чем занимались люди в деревнях.
Со временем в доступных нам сегодня документах обнаруживались различия и делались изменения, что накладывает определенные ограничения на работу с ними. Причина отсутствия внимания к ХX веку в данном исследовании не только сугубо историографическая, она также связана с этими изменениями в документах. Во-первых, последние двенадцать лет имперского правления ведение учета было весьма специфическим, что оказало влияние и на окружные суды. Статистика преступности показывает поразительные изменения после 1906 года. В период с 1880 по 1905 год количество уголовных дел, рассматриваемых в год, колебалось от 2000 до 3800 в Симферополе и от 3000 до 4500 в Казани104. На протяжении всего этого периода наибольшее количество дел в обоих окружных судах приходилось на различные виды краж. После революции 1905 года функции судебной системы изменились105. Так как мелкие преступления передавались в нижестоящие суды, количество рассмотренных дел в абсолютном выражении резко сократилось: в 1906 и 1907 годах в Симферополе рассматривалось всего 500 дел в год, а в Казани – от 800 до 900. В то же время в условиях революционных потрясений тех лет окружные суды все больше и больше занимались вопросами государственной безопасности. Если раньше государственные преступления, восстания и сопротивление властям занимали в этих судах лишь незначительное место, то внезапно такие политические преступления стали составлять от 20% до 25% всех уголовных дел в Симферополе и 35–42% в Казани. То, что в последующие годы данные показатели снова снизились, не значит, что 1906–1917 годы можно рассматривать в контексте предыдущих реформ. Необходимо более подробное исследование этого вопроса, чтобы проследить сложное переплетение преемственности и преобразований.
Во-вторых, архивы Казани и Симферополя специфически отображают и преподносят период 1905–1917 годов. Так, несмотря на то что ежегодно по-прежнему рассматривались сотни обычных уголовных и гражданских дел, информация о них в архивах практически отсутствует. Причина исчезновения документации, вероятно, была довольно банальной. Поскольку большинство этих дел было реорганизовано архивистами в сталинский период, не исключено, что в это время были приняты решения о сохранении политических дел и изъятии с полок неполитических дел, чтобы подчеркнуть полицейско-государственный характер ненавистной царской администрации. В последующие десятилетия эта тенденция сохранялась. Так, документы и в Казани, и в Симферополе подтверждают, что в 1980‐х годах неполитические дела были уничтожены в большом количестве (в описях они отмечены как «уничтоженные»)106. В результате сохранилось лишь небольшое количество неполитических дел, относящихся к началу ХX века, что делает качественный анализ деятельности окружного суда в этот период практически невозможным.
Существующие досье и отчеты также должны рассматриваться критически. Статистические данные часто были неполными. Отдельные религиозные, этнические или социальные группы не принимали участие в переписях, опасаясь репрессий или по культурным причинам. Некоторые мусульмане и христиане, заклейменные как «сектанты», равно как и другие преследуемые группы, избегали государственного учета или прямо сопротивлялись ему107. Например, то, что в городе Ялта в 1889 году было зарегистрировано 287 мужчин-мусульман, но только восемь женщин-мусульманок, вероятно, больше связано с отказом от общения с чиновниками-мужчинами, чем с их фактической численностью108. Этнографические исследования не обязательно были более точными, чем официальная статистика, поскольку некоторые из них опирались на одни и те же источники. Например, в многотомном исследовании А. Ф. Риттиха по этнографии России просто воспроизводилась искаженная статистика, предоставленная местной полицией109.
Статистические данные о судебных заседаниях столь же обрывочны. Хотя главные газеты Крыма и Казани часто публиковали списки присяжных заседателей для предстоящих процессов, иногда они этого не делали. Наше представление о составе присяжных заседателей в имперской России остается частичным и приблизительным. «Судебные резолюции», публиковавшиеся в прессе с конца 1860‐х годов, дают более подробную информацию о том, как в прессе освещалась работа новых судов, но и в них имеются свои проблемы: хотя в этих документах и указывался предмет судебного разбирательства, постановление суда и имена тяжущихся (в гражданских делах) или обвиняемых и потерпевших (в уголовных делах), они не следовали какому-либо единому стандарту. В одних перечислялась сословная принадлежность основных участников процесса, в других – нет; почти ни в одном случае не упоминалась их этническая или религиозная принадлежность. Иногда пресса и вовсе не публиковала «резолюций» или приводила только перечень отдельных судебных разбирательств. Таким образом, эти списки могут быть лишь приблизительным указанием того, какие правовые вопросы рассматривались на судебных процессах, кто обращался в суд и какие решения принимались судом.
В некоторых случаях статистические данные были полностью выдуманы. Государственные комиссии предостерегали от использования «произвольных цифр» в случаях, когда чиновники не могли найти нужную информацию110. Наконец, статистические данные вряд ли были непредвзятыми. Как показал Остин Джерсилд на примере Северного Кавказа, где местная статистика в основном состояла из коротких историй, документирующих ужасные преступления и наказания, статистика преступлений могла вестись таким образом, чтобы оправдать законодательные изменения. Эти записи способствовали созданию мифа о «варварских» местных жителях и «цивилизованных» русских и подкрепляли требования об усилении контроля111. Таким образом, статистика могла использоваться в качестве инструмента политики, но зачастую она была столь же необъективна, как и другие источники.
Пресса дает представление о развитии пореформенной правовой системы. По крайней мере, до середины 1870‐х годов Александр II считал, что освещение реформ в прессе обеспечит им народную поддержку, благодаря чему возник журналистский жанр судебных очерков112. Репортеры стали подробно освещать новые гласные судебные процессы, описывая все обстоятельства дела, атмосферу в зале суда, особенности языка жестов и поведения подсудимых, судебных чиновников и зрителей. Многие очерки содержали выступления прокуроров и адвокатов в полном объеме. Юристы и журналисты часто подчеркивали воспитательный аспект таких публикаций. Например, главная региональная газета Казани пообещала «распространить в нашем обществе юридические понятия», а затем добавила, что качественные публикации могут помочь выявить случаи несоблюдения процессуальных норм113. Либерально настроенные наблюдатели настаивали на том, что на прессе лежит моральная обязанность обличать ошибочные судебные решения114. Однако с середины 1870‐х годов, по мере того как цензоры начали распространять списки запрещенных тем и предупреждать редакции о недопустимости комментариев к официальным заявлениям, освещение судебных процессов стало более избирательным115.

