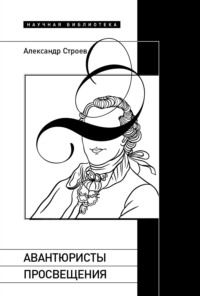
Авантюристы Просвещения
Правда, подобное доверие вознаграждается отнюдь не всегда: братья Премислав и Степан Занновичи выманили у голландских купцов большие деньги, обещав вложить их в несуществующие торговые корабли. Поскольку поручителем их был венецианский дипломат, то афера едва не вызвала войну между двумя республиками, голландской и венецианской. Изредка литераторы-авантюристы, не брезгавшие никакими коммерческими операциями, даже работорговлей (но на ней Вольтер наживался), сколачивали огромное состояние, как, например, Бомарше.
Французская внешняя политика XVIII в. во многом строилась не на завоевании новых земель, а на торговой экспансии и мирной колонизации. Рядовые французы мечтали повелевать чужими странами, вкладывая деньги в торговое предприятие и при этом несметно богатея. На этом был основан грандиозный успех основанной Джоном Лоу «Компании Миссисипи», стоимость акций которой с 1716 по 1720 г. выросла во много раз. В сочинениях тех, кто отстаивал идеалы буржуазного жизнеповедения, купцы рисовались, с одной стороны, как истинные философы, а с другой – как монархи, подлинные властелины мира. В комедии Седена «Философ, сам того не зная» (1765) заглавный герой, коммерсант, скрывающий свое дворянское происхождение, гордо заявляет, что одним росчерком пера отдает приказания на другом конце света, что он служит всем нациям94.
Мир знатности и мир богатства с миром искусства связывают две характерные фигуры: откупщик-меценат (д’Эпине, Ла Поплиньер) и светская дама, хозяйка салона, сама не чуждая философии и изящной словесности, покровительница ученых и писателей, как г-жа Жоффрен, маркиза де ла Ферте-Эмбо, г-жа Неккер, г-жа д’Эпине и др.
Разумеется, и мир писательский не был един. На одном полюсе находились литераторы, поденщики Республики Словесности, зависимые от покровителей, ищущие мецената, подлаживающиеся под вкусы публики, превозносящие власть или хулящие ее, как Тевено де Моранд, ибо памфлеты расходились лучше панегириков. На другом полюсе – аристократ и дилетант, пописывающий для своего удовольствия и нередко помогающий бедным собратьям по перу, как граф де Келюс. Разумеется, в обоих случаях графомания не только не исключалась, а скорее предполагалась; само же писательство воспринималось как ремесло низкое, едва ли не постыдное95. Обе эти модели поведения так или иначе адаптировались к буржуазным (всё на продажу) или дворянским принципам (благородное времяпрепровождение).
Напротив, философ воспринимался как человек не от мира сего, нарушающий все принятые нормы, для которого личная свобода важнее правил общежития и социальной иерархии. Любая зависимость – любовь, дружба, семья, родина – для него тяжелые оковы. Наиболее отчетливо это видно на примере Жан-Жака Руссо, для которого самые близкие люди превращаются в злодеев и тиранов, как только пытаются давать ему советы, а тем паче – вернуть его к общепринятым стереотипам.
Те черты, что свойственны любому литератору и вытекают из особенностей профессии, – склонность к уединению, беспрерывное чтение и писание, бытовая рассеянность из‐за постоянной концентрации умственных сил, непрактичность, бессребреничество – приобретают у философа гиперболические, гротескные и трагические черты. Любой «каторжанин письменного стола» (как называли Ф. М. Гримма) обрекает себя на геморрой, заворот кишок, урологические недуги, склероз и слепоту. Тех, кто добился обеспеченной жизни, разорила Революция. Медицинские сочинения XVIII столетия особо отмечали нездоровый образ жизни ученых, прямо противоположный идеалу естественной, активной, уравновешенной жизни на свежем воздухе. Классифицируя профессиональные недуги сочинителей, швейцарский врач Тиссо писал о «литературном истощении», о том, что сидячая жизнь, затворничество, пренебрежение телом во имя рассудка приводит к расстройству и того и другого и в конечном итоге к ипохондрии и мизантропии («О здоровье литераторов», 1768)96.
«Философское» поведение во всем противоположно «щегольскому» и потому не существует без него: для отрицания необходима точка отсчета. С другой стороны, щеголю также необходим философ, который поставляет новые идеи и доктрины, чье мнение воспринимается как высший авторитет, чье поведение и сочинения служат предметом для разговоров. Романы и тем более комедии зачастую рисуют и того и другого в ироническом ключе. Но разоблачают их, исходя все из того же противопоставления «быть» и «казаться». Философ обвиняется в том, что он плохо соответствует своей роли, что на самом деле он шарлатан, как в комедии Палиссо «Философы» (1760) или в письмах из Франции Д. И. Фонвизина: «Д’Аламберты, Дидероты в своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре; все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие»97.
Итак, философ думает, щеголь говорит. Философ пишет, щеголь беседует. «Есть ли меж придворных философы?» – спросил Казанова парижского литератора Клода Патю и услышал в ответ: «Философов нет, ибо невозможно придворному быть философом, но есть люди умные, каковые ради собственного блага не раскрывают рта» (ИМЖ, 107).
Философ читает медленно, возвращаясь, перечитывая, используя выписки в работе. Щеголь читает все подряд и очень быстро, несколько книг одновременно, читает всюду – за туалетом, на прогулке, в постели (Карраччиоли описывает эту манеру как типично французскую). Щеголь выносит суждение и мгновенно забывает произведение, тем самым уничтожая его. Философ существует в мире памяти, над которым не властно время, он беседует с предками и потомками. Щеголь живет сегодняшним днем – и соответственно, вне истории, ибо не думает ни о прошлом, ни о будущем. Как сформулировал Клод Патю, в Париже «почитают двух богов, хотя и не возводят им алтарей, – новизну и моду» (ИМЖ, 106).
Философ одинок, тогда как щеголь не существует вне света, общества, беспрестанного общения. Философ – убежденный холостяк, жена и дети отвлекают от высоких дум (в мистической интерпретации – препятствуют постижению высшего знания). Его утеха – беседа с такими же, как он, друзьями, его семья – сообщество людей науки, идеальная Республика Словесности. Любовница нянчит философа, как дитя. По свидетельству Казановы, Руссо говорил о Терезе Левассер, что она – его второе «я», что она не жена ему, не любовница, не служанка, не мать, не дочь, она для него всё (ИМЖ, 423).
Щеголь женат, но все внимание уделяет чужим супругам, забывая о своей. Он вынужден играть всегда роль соблазнителя, даже если бессилен (как в романе Кребийона «Софа», 1742), – репутация модного человека, главное достояние щеголя, заменяет все прочие достоинства. Беззаботный и любезный, он шутит и чарует без устали и без раздумий. Он берет женщину для того, чтобы ее бросить. Знаменитая «наука страсти нежной», изложенная в романах от Кребийона до Лакло, зиждется на понятии «случая», «момента»: улучив благоприятную ситуацию, надо без промедления ею воспользоваться. Щеголь или либертен должен превозносить женскую добродетель на словах и действовать так, как если бы ее вовсе не существовало.
Философ болен от сидячего образа жизни, щеголь всегда в движении. В обществе он буквально вертится волчком, он задает вопросы и говорит, не слушая и не дожидаясь ответов. У него своя речевая маска, фонетическая и лексическая. Парижское щегольское наречие – пропуск в высшие слои общества «французской Европы», раскинувшейся от Италии до России. Ла Морльер в романе «Ангола» (1746), посвященном «щеголихам», специально выделяет курсивом характерные словечки и фразы. И. А. Крылов в комедии «Трумф» высмеивает российских модников, копирующих речь французских франтов – шепелявость, пропуск сонорных98. Щеголь – патриот Парижа, философ – космополит и чужак («гражданин Женевы»).
Щеголь наряжен по моде, он ее законодатель, тогда как философ одет по-домашнему: так изображал Вольтера его приятель Гюбер в серии картин, сделанных по заказу Екатерины II. Он небрежен до чудаковатости (Дидро), носит восточный наряд (хотя Руссо и объяснял свое пристрастие к армянскому халату медицинскими соображениями). Философ во всем оригинален и индивидуален, он парадоксалист, тогда как остроумец-щеголь воплощает идеал одинаковости, он лучший из похожих на него. Предел поведения в обоих случаях – переменчивость, вечные метаморфозы. Щеголь уподобляется хамелеону, Карраччиоли утверждает, что трудно даже определить его пол – он похож на женщину лицом, манерами, голосом, он так же красится, пудрится. Заглавный герой комедии Пирона «Метромания, или Поэт» (1736) определяется через серию отрицаний: он не принадлежит ни к какому сословию, он не буржуа, не аббат, не судейский, не военный, он трудится день и ночь, не делая ничего, его лицо преображается вместе с мыслями, он одевается крайне небрежно или чересчур нарядно, все чудаки соединились в нем: мизантроп, честолюбец, ветреник, снисходительный, рассеянный; он живет под псевдонимом, музы заменяют ему любовь и состояние. Но переменчивость поэта и философа идет от нестандартности натуры, тогда как маска щеголя скрывает пустоту.
Щеголь, неверующий католик, безразличен к богословским проблемам, тогда как философ – чаще всего деист или атеист, как Дидро. В минуты озарений он, подобно Руссо, сам мнит себя Верховным существом. Современники почитают его как литературное божество (Вольтер). Философ – кумир толпы, щеголь – человек толпы.
Судьба их также различна. Удел щеголя – беззаботность, упорядоченность и предсказуемость мелких ежедневных событий. Удел философа – преследования, тюрьма и ссылка. Гонения изведали практически все, начиная с Вольтера, Дидро и Руссо; арест приравнивается к философской инициации. В век Просвещения пророка не начинают слушать, пока его не побили каменьями, книгу не читают, пока она не запрещена. Наиболее известный пример – третье издание «Истории обеих Индий» аббата Рейналя. Сожженное в 1781 г. рукой палача, оно доставило автору славу мученика философии и сделалось бестселлером. Как утверждал Гюстав Лансон, для писателя Бастилия становилась преддверием славы. Аббат Морелле, попав туда, воскликнул: «Шесть месяцев в Бастилии послужат мне наилучшей рекомендацией и несомненно обеспечат мое будущее!» – и не ошибся, хотя просидел всего шесть недель99.
Три основных типа философов Просвещения воплощают Вольтер, Дидро и Руссо. Первый – человек, преуспевший во всех областях: философии, литературе, истории и, что очень важно, в денежных делах. В своих «Мемуарах» (1759) он рисует мудреца, живущего в уединении, спокойствии, довольстве и полной независимости. Бывший наперсник монархов, он с философской радостью видит, что короли не столь счастливы и покойны и что его положение предпочтительнее100. При этом финансовой независимостью он гордился едва ли не больше, чем литературными достижениями. Вольтер был человеком практичным и оборотистым, истинным буржуа, хотя его семья и получила дворянство. В мемуарах своих он советовал: чтобы составить состояние, надо внимательно читать правительственные указы. Вольтер мигом находил в них слабые места и предмет для финансовых спекуляций. При всем своем затворничестве фернейский патриарх отстаивал идею союза элит, философов и знати, дабы произвести преобразования сверху (эта мысль была близка и д’Аламберу). Литературную богему Вольтер презирал и третировал101.
Дидро, напротив, относился к своим нищим собратьям с интересом и симпатией («Племянник Рамо»). Человек энциклопедических знаний, но увлекающийся, рассеянный, неловкий в практической жизни, он столь энергично жестикулировал, беседуя с Екатериной II, что императрице пришлось поставить столик между ними, чтобы уберечься, – у нее все ляжки были в синяках. Друзья и враги называли его неподражаемым оригиналом, шестидесятилетним ребенком, говорили, что он грезит наяву, не дорожит ни временем своим, ни славой.
И последний, Руссо, – осмеянный и прославленный безумец, утопист и пророк. В предисловии к роману «Удачливый философ» (1787) Р. М. Лезюир писал, что мания преследования – расхожая болезнь литераторов. Удрученные своими бедами, они считают их результатом всеобщего заговора и во всех окружающих видят правительственных шпионов. Но Руссо, по его мнению, к тому же возвышенный безумец, пророк102. Как показал Жан Старобинский, анализируя восходящий к Библии образ больного пророка, Руссо мазохистски преувеличивал свои страдания и страхи, подсознательно усиливал свои болезни, как бы закрываясь ими от общества и от общения103. О безумии Жан-Жака профессиональные врачи и дилетанты написали многие тома.
Сам Руссо отказывался причислять себя к литераторам, ибо они делают одно, думают другое, а пишут третье. Он отстаивал единство жизни и творчества (быть и казаться)104, и при этом нарушал все свои заповеди: педагог, он сдал детей в приют; противник театра и аристократов, он сочинил пьесу для представления при дворе. При разрешении философских и житейских проблем он старался поступать наперекор общепринятым идеям и нормам. Он усиленно создавал легенду о своем бессребреничестве, непокорности и неудачах и старался следовать ей. Сам себе судья и палач, Руссо жаждал и добивался преследований, обид, болезней, одиночества и нищеты.
В русском некрологе величие женевского гражданина доказывается именно через праведность жития:
Но все сие не может стать в сравнение с добродетельностью жизни сего философа. Гонимый, вечно скитающийся, кроющийся, терпящий все нужды, все недостатки, все обиды, кои невинный человек терпеть может, то есть клевету и зависть, не токмо не мстил, но ниже на кого не жаловался. Хотя никому преоборение не было так легко, как сему сильноречивому писателю, но терпеть и прощать было его и правило и чувство. Никто не мог склонить его, ни в какой нужде, принять какое-нибудь вспоможение […] Впрочем, одни сочинения его могли бы произвесть ему безбедное состояние, но мысли свои и наставления не считал он продажным товаром, а ставил в цену только свою ручную работу, которая состояла в переписывании нот музыкальных и за которую он брал по десяти копеек французских со страницы105.
Для Руссо, как для евангельских пророков, для юродивых и для персонажей Достоевского, скандал – главная форма разрешения всех жизненных ситуаций и созданных им самим конфликтов.
***Авантюристы, как правило, подражают щеголям, но внутренне они близки философам. Поэтому отношения с первыми у них идилличны, со вторыми – напряженны и драматичны. Авантюрист, человек из третьего сословия, следует светскому этикетному поведению в одежде, речах, манерах, отношениях к женщинам, в особенности если он выезжает за пределы Франции. Венецианец Казанова гордится своим парижским арго, позволяющим тотчас отделить своих от чужих и в Петербурге в 1765 г. («Я не узнаю ее по голосу, но по речам уверяюсь, что эта маска хорошая моя знакомая, ибо непрестанно слышу словечки и обороты, что я ввел в моду в парижских домах». – ИМЖ, 554), и в Италии в 1772 г. Он пишет в мемуарах о своей книге «Бестолочь. Послание одного ликантропа» (1772)106, опубликованной по-итальянски:
Я вставил туда предисловие на французском, используя одни лишь простонародные парижские словечки, никому не понятные. Шутка эта доставила мне близкое знакомство со многими молодыми людьми (HMV, III, 961).
Язык формирует аудиторию – избранную, просвещенную, космополитичную, благородную. Когда же, напротив, Клод Патю остроумно изъясняется по-итальянски в стиле Боккаччо, то Казанова убеждает его, что говорить так не следует.
Но при всем сходстве щеголя и авантюриста фигуры эти отнюдь не тождественны. На театре светской жизни первый – зритель, самое большее статист, тогда как второй – автор и комедиант. Модник болтает, искатель приключений творит. Щеголь, переносчик новостей, гордится тем, что он раньше всех оказывается в курсе событий; авантюрист тоже, как правило, блестящий рассказчик, но предпочитает, чтобы говорили о нем. Пересказывая истории из своей жизни, он столь гордится ими, что отказывается что-либо менять в повествовании. Даже для всесильного герцога де Шуазеля Казанова отказался сократить свой двухчасовой рассказ о побеге из Пьомби, которым снискал успех у парижан.
Щеголь – житель столицы, авантюрист вынужден беспрестанно покидать ее. Щеголь может блистать только в своем кругу, для авантюриста чужбина – дом родной. Казанова стремится соблазнять всех, от крестьянки до императрицы, из дворца он попадает в избу, дневные литературные дискуссии с Вольтером перемежаются вечерними оргиями. При этом он все равно остается чужим и привлекает внимание именно своей непохожестью. Ревнивое противоборство авантюристов с философами проистекает именно из близости их «антиповедения».
Вольтер, Руссо и авантюристы
Для многих авантюристов Вольтер – едва ли не главный пример для подражания. Они либо стремятся преуспеть в тех же областях, что и фернейский отшельник, нередко встречаясь с теми же людьми (подобно ему, Казанова сотрудничал с финансистом Пари-Дюверне, ссорился с семейством де Роганов), либо пытаются использовать славу Вольтера, составить репутацию, выступая в роли его ученика или соперника.
Прославленный философ, писатель, историк, властитель дум, советник монархов, богач, Вольтер в глазах искателя приключений воплощает образец удачливости и недостижимый идеал, реализует его мечты и проекты. Да и у самого Вольтера в глубине души есть что-то от авантюриста, его терзает комплекс незаконнорожденного, парвеню, которого презирают аристократы. Ему ведомы резкие перемены судьбы, взлеты и падения, его прославляли и били палками, арестовывали, ссылали. Состояние он составил не творчеством, а спекуляциями, нередко не слишком благовидными. Фридрих Великий сильно гневался на него за махинации с саксонскими ценными бумагами.
30 января 1751 г. он писал своей сестре, маркграфине Байрейтской:
Вы спрашиваете, что за тяжба у Вольтера с жидом? Судится плут, который хочет надуть мошенника. Нельзя, чтоб человек с умом Вольтера так злоупотреблял им […] Он вел себя как сумасшедший107.
Вольтер – игрок по характеру своему; азартный картежник, он полагает, что игра делает людей равными и свободными:
В мире есть только один образцовый закон, регламентирующий ту разновидность безумия, что зовется игрой: лишь ее правила не допускают ни исключений, ни послаблений, ни разночтений, ни «тирании»108.
Вольтер добивается успеха там, где авантюрист разоряется или довольствуется малым, в том числе в лотерее. Сочинив уйму финансовых проектов, искатели приключений разоряются так же быстро, как богатеют, и умирают в нищете. Патриарх, напротив, получал в шестьдесят шесть лет 120 000 ливров годовой ренты (по свидетельству Казановы), а в конце жизни уже 231 300 ливров, и был среди двадцати крупнейших рантье Франции.
Вольтер в беседах, письмах и сочинениях стремился воспитывать просвещенных монархов, что, разумеется, было делом непростым и с Фридрихом II, и с Екатериной II. Авантюрист более всего завидовал этой роли и наименее успешно с ней справлялся.
Авантюристы пытаются соперничать с Вольтером, создавая истории России и Польши, как это делали Казанова и Анж Гудар. Шевалье д’Эон вступил в прямую полемику с «Историей Российской империи при Петре Великом» (1759–1763) в своей «Непредвзятой истории императрицы Евдокии Федоровны, первой жены Петра Великого» (1774). Он исправляет неточности фернейского патриарха, укоряет его за лесть. Д’Эон создает не парадное, а приватное жизнеописание создателя новой России, рисует его как тирана, жестокого мужа и отца. История страны предстает как история семьи, изложенной от лица брошенной женщины. Д’Эон превращает подлинные факты в роман, напоминающий столь популярные в XVIII в. сюжеты о невинной жертве, преследуемой злодеями и Роком.
Лишь в одной области, пожалуй, искатели приключений успешно конкурируют со своим идолом – в тайной дипломатии и шпионаже. В молодости Вольтер отказался последовать за политическим авантюристом Гёрцем, который намеревался перекроить карту Европы и вел тайные переговоры о заключении политического союза между Петром I и Карлом XII109. Позже, в 1722 г., он предлагает свои услуги в качестве тайного агента министру иностранных дел и первому министру кардиналу Дюбуа, он готов ехать с заданием в Вену. Впоследствии Вольтер участвует во французской дипломатической игре, служит посредником между Версалем и Берлином, но Фридрих II оказывается хитрее своего наставника-философа.
И все-таки на долю авантюриста, как правило, выпадал жребий не Вольтера, а Руссо – преследуемого, безумного пророка. Сами искатели приключений, их друзья и недруги постоянно сравнивают их жизни с судьбой Жан-Жака. Анонимный автор памфлета «Очерк жизни Жозефа Франсуа Борри» (1786) утверждает, что многие шарлатаны, подобно Руссо, вечно делают неверный выбор, решая, принять им пенсион или отказаться. Ж.‐Ж. Татен показывает, как сам Калиостро в «Письме к английскому народу» (1787) разрабатывает мотив всеобщего заговора против праведника, как в приписываемых ему сочинениях, в первую очередь в «Исповеди графа К****» (1787), используются стереотипы руссоистского дискурса: критика эгоизма власть имущих и городского повреждения нравов, прославление здоровой сельской жизни110.
Степан Заннович в своих сочинениях представлялся как одинокий философ, поклонник и последователь Руссо; в 1773 г. он написал сонет, прославляя современного Сократа111, перевел на итальянский его музыкальную драму «Пигмалион», попытался вступить с ним в переписку112. Правда, женевский гражданин не слишком ему доверял. В третьем диалоге «Руссо – судья Жан-Жака» (1774) он обвинил д’Аламбера в причастности к пропаже копии его рукописи «Рассуждения о правительстве польском» (1772) и добавил:
…в этом деле не обошлось без д’Аламбера, так же как в случае с неким графом Занновичем, далматинцем, и польским священником-авантюристом, который из кожи вон лез, чтобы проникнуть ко мне113.
Когда Руссо приехал в Англию, шевалье д’Эон в своем письме от 20 февраля 1766 г. приветствовал славного изгнанника и представил на его суд свое дело (ссору с графом де Герши, французским послом в Англии):
У наших бед – почти что один источник, хотя причины и следствия их различны. Говорят, что вы излишне любите свободу и истину. Мне бросают тот же упрек […] Можно во многих отношениях усмотреть параллели в причудливости вашей и моей доли […] Любезный Руссо, мой старый собрат в политике, учитель мой в литературе, спутник в несчастье моем, вы, как и я, испытали переменчивость и несправедливость многих соотечественников наших114.
Руссо ответил вежливо и прекратил переписку. Подчеркнем, что Вольтер в эти годы вполне разделял точку зрения д’Эона. «Жан-Жак Руссо так же безумен, как всякие д’Эоны и Вержи», – писал он графу д’Аржанталю в 1765 г.115 Он просит врача Теодора Троншена вернуть ему «безумства д’Эона»116, то есть «Письма, мемуары и частные переговоры шевалье д’Эона» (1764), которые он сохранит, пометив на экземпляре: «Безумства д’Эона»117. Справедливости ради отметим, что сам шевалье в эту пору писал герцогу де Брольо: «Я очень боюсь в самом деле сойти с ума»118. А Башомон писал 14 апреля 1764 г. о книге и ее авторе, что «его недостойные приемы, неуравновешенное поведение и раздерганный стиль изобличают человека злобного и сумасшедшего»119. Позднее, после выхода в свет своих «Досугов» (1774), д’Эон превозносил Жан-Жака в письме к издателю и уверял, что хорошо знает великого человека120.
Казанова в мемуарах описывает, как вместе с маркизой д’Юрфе посетил Руссо в Монморанси в конце 1750‐х годов, избрав обычный предлог: желавшие видеть философа приносили ему ноты для переписки. Жан-Жак показался ему человеком здравым и скромным, но не слишком учтивым. Правда, казановист Гельмут Вацлавик121 предположил, что венецианец повествует с чужих слов: он излишне лаконичен, избегает деталей и быстро переходит к рассказу о визите в Монморанси принца де Конти. Мораль традиционна: «Вот какие глупости совершают философы, когда, желая быть оригинальными, чудят» (ИМЖ, 423). Казанова постоянно сохраняет чуть ироническую дистанцию: он не доверяет словам этого «визионера» (HMV, I, 804), отмечает в сочинениях Жан-Жака ошибки, недостойные «истинного гения» (ИМЖ, 580), приводит критическое мнение о «Новой Элоизе» противника Руссо Альбрехта Галлера (ИМЖ, 445–446), подчеркивает отличие своих мемуаров от «Исповеди» (он-де говорит о своих глупостях столь же искренне, но с меньшим самолюбованием, чем «несчастный великий человек». – HMV, II, 714). Принц де Линь, один из первых читателей «Истории моей жизни», ставил ее выше «Исповеди».
Я предпочитаю Жака [Джакомо] Жан-Жаку, – писал он Казанове, – ибо вы веселите, а он учительствует, вы гурманствуете, а он приправляет кушанье добродетелью. Вы сорвали три десятка роз невинности, а он – один барвинок. Вы человек благодарный, чувствительный и доверчивый, он неблагодарен и подозрителен. Вы всегда были отменным ходоком, тогда как он серьезно и красноречиво повествует о своем бессилии122.