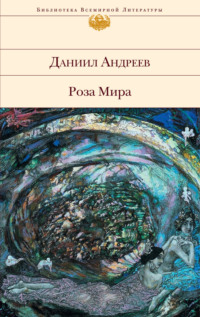
Роза Мира
Именно метаисторическим созерцанием можно, мне кажется, назвать эту вторую стадию процесса.
Картина, создающаяся таким образом, подобна полотну, на котором ясны отдельные фигуры и, быть может, их общая композиция, но другие фигуры туманны, а некоторые промежутки между ними ничем не заполнены; иные же участки фона или отдельные аксессуары отсутствуют вовсе. Возникает потребность уяснения неотчетливых связей, наполнения скитающихся пустот. Процесс вступает в третью стадию, наиболее свободную от воздействия внеличных и внерассудочных начал. Ясно поэтому, что именно на третьей стадии совершаются наибольшие ошибки, неправильные привнесения, слишком субъективные истолкования. Главная помеха заключается в неизбежно искажающем вмешательстве рассудка; вполне отделаться от этого, по-видимому, почти невозможно. Возможно другое: уловив внутреннюю природу метаисторической логики, удается иной раз перестроить в ее направлении даже работу рассудка.
Эту третью стадию процесса естественно назвать метаисторическим осмыслением.
Таким образом, метаисторическое озарение, метаисторическое созерцание и метаисторическое осмысление можно фиксировать как три стадии того пути познания, о котором идет речь.
Оговорю возможность еще одного рода состояний, представляющих разновидность состояний первой стадии. Это – озарение особого типа, связанное с переживанием метаисторических начал демонической природы; некоторые из них обладают огромною мощью и обширною сферой действия. Это состояние, которое было б правильно назвать инфрафизическим прорывом психики, крайне мучительно и по большей части насыщено чувством своеобразного ужаса. Но, как и в остальных случаях, за этим состоянием тоже следуют стадии созерцания и осмысления.
Мои книги, написанные или пишущиеся в чисто поэтическом плане, зиждутся на личном опыте метаисторического познания. Концепция, являющаяся каркасом этих книг, выведена целиком из этого опыта. Откуда я взял эти образы? кто и как внушил мне эти идеи? какое право имею я говорить с такой уверенностью? могу ли я дать какие-нибудь гарантии в подлинности своего опыта? – Теперь, здесь, в одной из вступительных частей книги «Роза Мира», я отвечаю на эти вопросы, как могу. В автобиографической конкретизации нет ничего для меня привлекательного, я стараюсь ее свести к минимуму. Но в этот минимум входит, конечно, краткий отчет о том, где, когда и при каких обстоятельствах были пережиты мной часы метаисторического озарения.
Первое событие этого рода, сыгравшее в развитии моего внутреннего мира огромную, во многом даже определяющую роль, произошло в августе 1921 года, когда мне еще не исполнилось пятнадцати лет. Это случилось в Москве, на исходе дня, когда я, очень полюбивший к тому времени бесцельно бродить по улицам и беспредметно мечтать, остановился у парапета в одном из скверов, окружавших Храм Христа Спасителя и приподнятых над набережной. Московские старожилы еще помнят, какой чудесный вид открывался оттуда на реку, Кремль и Замоскворечье с его десятками колоколен и разноцветных куполов. Был, очевидно, уже седьмой час, и в церквах звонили к вечерне… – Событие, о котором я заговорил, открыло передо мной или, вернее, надо мной такой бушующий, ослепляющий, непостижимый мир, охватывавший историческую действительность России в странном единстве с чем-то неизмеримо большим над ней, что много лет я внутренне питался образами и идеями, постепенно наплывавшими оттуда в круг сознания. Разум очень долго не мог справиться с ними, пробуя создавать новые и новые конструкции, которые должны были сгармонизировать противоречивость этих идей и истолковать эти образы. Процесс слишком быстро вступил в стадию осмысления, почти миновав промежуточную стадию созерцания. Конструкции оказались ошибочными, разум не мог стать вровень со вторгавшимися в него идеями, и потребовалось свыше трех десятилетий, насыщенных дополняющим и углубляющим опытом, чтобы пучина приоткрывшегося в ранней юности была правильно понята и объяснена.
Второе событие этого порядка я пережил весной 1928 года в церкви Покрова-в-Левшине, впервые оставшись после пасхальной заутрени на раннюю обедню: эта служба, начинающаяся около двух часов ночи, ознаменовывается, как известно, чтением – единственный раз в году – первой главы Евангелия от Иоанна: «В начале бе Слово». Евангелие возглашается всеми участвующими в службе священниками и дьяконами с разных концов церкви, поочередно, стих за стихом, на разных языках – живых и мертвых. Эта ранняя обедня – одна из вершин православного – вообще христианского – вообще мирового богослужения. Если предшествующую ей заутреню можно сравнить с восходом солнца, то эта обедня – настоящий духовный полдень, полнота света и всемирной радости. Внутреннее событие, о котором я говорю, было и по содержанию своему, и по тону совсем иным, чем первое: гораздо более широкое, связанное как бы с панорамой всего человечества и с переживанием Всемирной истории как единого мистического потока, оно, сквозь торжественные движения и звуки совершавшейся передо мной службы, дало мне ощутить тот вышний край, тот небесный мир, в котором вся наша планета предстает великим Храмом и где непрерывно совершается в невообразимом великолепии вечное богослужение просветленного человечества.
В феврале 1932 года, в период моей кратковременной службы на одном из московских заводов, я захворал и ночью, в жару, приобрел некоторый опыт, в котором, конечно, большинство не усмотрит ничего, кроме бреда, но для меня – ужасающий по своему содержанию и безусловный по своей убедительности. Существо, которого касался этот опыт, я обозначал в своих книгах и обозначаю здесь выражением «третий уицраор». Странное, совсем не русское слово «уицраор» не выдумано мною, а вторглось в сознание тогда же. Очень упрощенно смысл этого исполинского существа, схожего, пожалуй, с чудищами морских глубин, но несравненно превосходящего их размерами, я бы определил как демона великодержавной государственности. Эта ночь оставалась долгое время одним из самых мучительных переживаний, знакомых мне по личному опыту. Думаю, что если принять к употреблению термин «инфрафизические прорывы психики», то к этому переживанию он будет вполне применим.
В ноябре 1933 года я случайно – именно совершенно случайно – зашел в одну церковку во Власьевском переулке. Там застал я акафист преподобному Серафиму Саровскому. Едва я открыл входную дверь, прямо в душу мне хлынула теплая волна нисходящего хорового напева. Мною овладело состояние, о котором мне чрезвычайно трудно говорить, да еще в таком протокольном стиле. Непреодолимая сила заставила меня стать на колени, хотя участвовать в коленопреклонениях я раньше не любил: душевная незрелость побуждала меня раньше подозревать, что в этом движении заключено нечто рабское. Но теперь коленопреклонения оказалось недостаточно. И когда мои руки легли на ветхий, тысячами ног истоптанный коврик, распахнулась какая-то тайная дверь души, и слезы ни с чем не сравнимого блаженного восторга хлынули неудержимо. И, по правде сказать, мне не очень важно, как знатоки всякого рода экстазов и восхищении назовут и в какой разряд отнесут происшедшее вслед за этим. Содержанием же этих минут был подъем в Небесную Россию, переживание Синклита ее просветленных, нездешняя теплота духовных потоков, льющихся из того средоточия, которое справедливо и точно именовать Небесным Кремлем. Великий дух, когда-то прошедший по нашей земле в облике Серафима Саровского, а теперь – один из ярчайших светильников Русского Синклита, приблизился и склонился ко мне, укрыв меня, словно эпитрахилью, шатром струящихся лучей света и ласкового тепла. – В продолжение почти целого года, пока эту церковь не закрыли, я ходил каждый понедельник к акафистам преподобному Серафиму – и – удивительно! – переживал это состояние каждый раз, снова и снова, с неослабевающей силой.
В начале 1943 года я участвовал в переходе 196-й стрелковой дивизии по льду Ладожского озера и, после двухдневного пути через Карельский перешеек, вошел поздно вечером в осажденный Ленинград. Во время пути по безлюдному, темному городу к месту дислокации мною было пережито состояние, отчасти напоминавшее то давнишнее, юношеское, у храма Спасителя, по своему содержанию, но окрашенное совсем не так: как бы ворвавшись сквозь специфическую обстановку фронтовой ночи, сперва просвечивая сквозь нее, а потом поглотив ее в себе, оно было окрашено сурово и сумрачно. Внутри него темнело и сверкало противостояние непримиримейших начал, а их ошеломляющие масштабы и зиявшая за одним из них великая демоническая сущность внушали трепет ужаса. Я увидел третьего уицраора яснее, чем когда-либо до того, – и только веющее блистание от приближавшегося его врага – нашей надежды, нашей радости, нашего защитника, великого духа-народоводителя нашей родины – уберегло мой разум от непоправимого надлома[6].
Наконец, нечто схожее, но уже полностью свободное от метафизического ужаса, было мною пережито в сентябре 1949 года во Владимире, опять-таки ночью, в маленькой тюремной камере, когда мои единственный товарищ спал, и несколько раз позднее, в 1950-53 годах, тоже по ночам, в общей тюремной камере. Для «Розы Мира» недостаточно было опыта, приобретенного на таком пути познания. Но самое движение по этому пути привело меня к тому, что порою я оказывался способным сознательно воспринять воздействие некоторых Провиденциальных сил, и часы этих духовных встреч сделались более совершенной формой метаисторического познания, чем та, которая мною только что описана.
Сравнительно часто и многими изведан выход эфирного тела из физического вместилища, когда это последнее покоится в глубоком сне, и странствие по иным слоям планетарного космоса. Но, возвращаясь к дневному сознанию, путник не сохраняет о виденном никаких отчетливых воспоминаний. Хранятся они только в глубинной памяти, наглухо отделенной от сознания у огромного большинства. Глубинная память (анатомически ее центр помещается в мозгу) – это хранилище воспоминании о предсуществовании души, а также о ее трансфизических странствиях, подобных описываемому. Психологический климат некоторых культур и многовековая религиозно-физиологическая практика, направленная в эту сторону, как, например, в Индии и странах буддизма, способствовали тому, что преграда между глубинной памятью и сознанием ослабела. Если отрешиться от дешевого скепсиса, нельзя не обратить внимание на то, что именно в этих странах часто можно услышать, даже от совсем простых людей, утверждения о том, что область предсуществования не является для их сознания закрытой совершенно. В Европе, воспитывавшейся сперва на христианстве, оставлявшем эту проблему в стороне, а потом на безрелигиознои науке, ослаблению преграды между глубинной памятью и сознанием не способствовало ничто, кроме индивидуальных усилий редких единиц.
Я должен сказать совершенно прямо, что лично мною не было проявлено даже и этих усилий, по той простой причине, что я не знал, как к этому подойти, а руководителей у меня не было. Но было зато нечто иное, чем я обязан, вероятно, усилиям невидимых осуществителей Провиденциальной воли, а именно – некоторая приоткрытость, как бы на узенькую щелку, двери между глубинной памятью и сознанием. Сколь бы неубедительно ни прозвучало это для подавляющего большинства, но я не намерен скрывать того факта, что слабые, отрывочные, но для меня неоспоримо достоверные проблески из глубинной памяти сказывались в моей жизни с детских лет, усилились в молодости и, наконец, на сорок седьмом году жизни стали озарять дни моего существования новым светом. Это не значит, будто бы совершилось полное раскрытие органа глубинной памяти, – до этого еще далеко, но значительность образов, оттуда подающихся, стала для меня столь осязательно ясна, а образы эти временами столь отчетливы, что качественное, принципиальное отличие их от обычных воспоминаний, а также от работы воображения становится несомненным.
Как могу я не преклониться с благодарностью перед судьбой, приведшей меня на целое десятилетие в те условия, которые проклинаются почти всеми, их испытавшими, и которые были не вполне легки и для меня, но которые, вместе с тем, послужили могучим средством к приоткрытию духовных органов моего существа? Именно в тюрьме, с ее изоляцией от внешнего мира, с ее неограниченным досугом, с ее полутора тысячею ночей, проведенных мною в бодрствовании, лежа на койке, среди спящих товарищей, – именно в тюрьме начался для меня новый этап метаисторического и трансфизического познания. Часы метаисторического озарения участились. Длинные ряды ночей превратились в сплошное созерцание и осмысление. Глубинная память стала посылать в сознание все более и более отчетливые образы, озарявшие новым смыслом и события моей личной жизни, и события истории и современности. И, наконец, пробуждаясь утром после короткого, но глубокого сна, я знал, что сегодня сон был наполнен не сновидениями, но совсем другим: трансфизическими странствиями.
Если подобные странствия совершаются по демоническим слоям и притом без вожатого, а под влиянием темных устремлений собственной души или по предательскому призыву демонических начал, человек, пробуждаясь, не помнит отчетливо ничего, но выносит из странствия влекущее, соблазнительное, сладостно-жуткое ощущение. Из этого ощущения, как из ядовитого семени, могут вырасти потом такие деяния, которые надолго привяжут душу, в ее посмертии, к этим мирам. Такие блуждания случались со мною в юности, такие деяния влекли они за собой, и не моя заслуга в том, что дальнейший излучистый путь моей жизни на земле уводил меня все дальше и дальше от этих срывов в бездну.
Если же спуск совершается с вожатым – одним из братьев Синклита страны или Синклита Мира, если он имеет провиденциальный смысл и назначение, то путник, пробуждаясь и испытывая иногда то же сладостно-жуткое, искушающее чувство, в то же время осознает его соблазн; мало того: в его воспоминаниях обретается этому соблазну противовес: это – понимание грозного смысла существования этих миров и их подлинного лица, а не личины. Он не пытается вернуться в эти нижние слои посредством этического падения в плане своего бодрственного бытия, но делает приобретенный опыт объектом религиозного, философского и мистического осмысления или даже материалом своих художественных созданий, имеющих наряду с другими значениями непременный предупреждающий смысл.
На сорок седьмом году жизни я вспомнил и понял некоторые из своих трансфизических странствий, совершенных ранее; до этого времени воспоминания о них носили характер смутных, клочкообразных, ни в какое целое не слагавшихся хаотических полуобразов. Новые же странствия зачастую оставались в памяти так отчетливо, так достоверно, так волнуя все существо ощущением приоткрывшихся тайн, как не остается в памяти никакое сновидение, даже самое значительное.
Есть еще более совершенный вид таких странствий по планетарному космосу: тот же выход эфирного тела, те же странствия с великим вожатым по слоям восходящего или нисходящего ряда, но с полным сохранением бодрственного сознания. Тогда, вернувшись, путник приносит воспоминания еще более бесспорные и, так сказать, исчерпывающие. Это возможно только в том случае, если духовные органы чувств уже широко раскрыты и запоры с глубинной памяти сорваны навсегда. Это уже подлинное духовидение. И этого, конечно, я не испытал.
Насколько мне известно (возможно, впрочем, что я ошибаюсь), из европейских писателей этому был причастен пока один только Дант. Создание «Божественной комедии» было его миссией. Но полное раскрытие его духовных органов совершилось только в конце жизни, когда огромная работа над поэмой уже близилась к концу. Он понял многочисленные ошибки, неточности, снижение смысла, излишнюю антропоморфность образов, но для исправления уже не хватало времени и сил. Тем не менее излагаемая им система может быть принята в основных чертах, как панорама разноматериальных слоев романо-католической метакультуры.
Не смея и заикаться о чем-либо подобном, я имел, однако, великое счастье бесед с некоторыми из давно ушедших от нас и ныне пребывающих в Синклите России. К совершенно потрясающим переживаниям их реальной близости я почти не смею прикоснуться пером. Не смею назвать и имена их, но близость каждого из них окрашивалась в неповторимо индивидуальный тон чувств. Встречи случались и днем, в людной тюремной камере, и мне приходилось ложиться на койку, лицом к стене, чтобы скрыть поток слез захватывающего счастья. Близость одного из великих братьев вызывала усиленное биение сердца и трепет торжественного благоговения. Другого все мое существо приветствовало теплой, нежной любовью, как драгоценного друга, видящего насквозь мою душу и любящего ее и несущего мне прощение и утешение. Приближение третьего вызывало потребность склонить перед ним колена, как перед могучим, несравненно выше меня взошедшим, и близость его сопровождалась строгим чувством и необычайной обостренностью внимания. Наконец, приближение четвертого вызывало ощущение ликующей радости – мировой радости – и слезы восторга. Во многом могу усомниться, ко многому во внутренней жизни отнестись с подозрением в его подлинности, но не к этим встречам.
Видел ли я их самих во время этих встреч? Нет. Разговаривали ли они со мной? Да. Слышал ли я их слова? И да, и нет. Я слышал, но не физическим слухом. Как будто они говорили откуда-то из глубины моего сердца. Многие слова их, особенно новые для меня названия различных слоев Шаданакара и иерархий, я повторял перед ними, стараясь наиболее близко передать их звуками физической речи, и спрашивал: правильно ли? Некоторые из названий и имен приходилось уточнять по нескольку раз; есть и такие, более или менее точного отображения которых в наших звуках найти не удалось. Многие из этих нездешних слов, произнесенных великими братьями, сопровождались явлениями световыми, но это не был физический свет, хотя их и можно сравнить в одних случаях со вспышками молнии, в других – с заревами, в третьих – с лунным сиянием. Иногда это были уже совсем не слова в нашем смысле, а как бы целые аккорды фонетических созвучий и значений. Такие слова перевести на наш язык было нельзя совсем, приходилось брать из всех значений – одно, из всех согласованно звучащих слогов – один. Но беседы заключались не в отдельных словах, а в вопросах и ответах, в целых фразах, выражавших весьма сложные идеи. Такие фразы, не расчленяясь на слова, как бы вспыхивали, отпечатываясь на сером листе моего сознания, и озаряли необычайным светом то темное для меня и неясное, чего касался мой вопрос. Скорее даже это были не фразы, а чистые мысли, передававшиеся мне непосредственно, помимо слов.
Так, путь метаисторических озарений, созерцаний и осмыслений был дополнен трансфизическими странствиями, встречами и беседами.
Дух нашего века не замедлит с вопросом: «Пусть то, что автор называет опытом, достоверно для пережившего субъекта. Но может ли оно иметь большую объективную значимость, чем „опыт" обитателя лечебницы для душевнобольных? Где гарантии?»
Но странно: разве ко всем явлениям духовной жизни, ко всем явлениям культуры мы подходим с требованием гарантий? а если не ко всем, то почему именно к этим? Ведь мы не требуем от художника или композитора гарантий «достоверности» их музыкальных наитий и живописных видений. Нет гарантий и в передаче религиозного и, в частности, метаисторического опыта. Без всяких гарантий опыту другого поверит тот, чей душевный строй хотя бы отчасти ему созвучен; не поверит и потребует гарантий, а если получит гарантии – все равно их не примет тот, кому этот строй чужд. На обязательности принятия своих свидетельств настаивает только наука, забывая при этом, как часто ее выводы сегодняшнего дня опрокидывались выводами следующего. Чужды обязательности, внутренне беспредельно свободны другие области человеческого духа: искусство, религия, метаистория.
Впрочем, смешивать эти области между собой, полагать, например, будто метаисторическая форма познания является какою-то оригинальной и редкой разновидностью художественного творчества, – было бы самой примитивной ошибкой. На некоторых стадиях они могут соприкасаться, да. Но возможен метаисторический познавательный процесс, начисто свободный от элементов художественного творчества, а процессы художественного творчества, не имеющие никакого отношения к метаистории, – воистину бесчисленны.
Но и в области религий – до сих пор лишь немногочисленные разновидности их действительно обогащены метаисторическим познанием. Интересно отметить, что в русском языке слово «откровение» в буквальном смысле равнозначное греческому «апокалипсис», не помешайте, однако, этому последнему прочно обосноваться на русской почве. При этом за каждым из двух слов закрепился особый оттенок смысла. Значение слова «откровение» более общё: если не замыкаться в узко-конфессиональные рамки, придется включить в число исторических случаев откровения и такие события, как видения и восхищения Мухаммеда и даже озарение Гаутамы Будды. Апокалипсис же – только один из видов откровения: откровение не областей универсальной гармонии, не сферы абсолютной полноты, даже не круга звездных или иных космических иерархий; это – откровение о судьбах народов, царств, церквей, культур, человечества, и о тех иерархиях, кои в этих судьбах проявляют себя наиболее действенно и непосредственно: откровение метаистории. Апокалипсис не так универсален, как откровение вселенское, он иерархически ниже, он – о более частом, о расположенном ближе к нам. Но именно вследствие этого он отвечает на жгучие запросы судьбы, брошенной в горнило исторических катаклизмов. Он заполняет разрыв между постижением универсальной гармонии и диссонансами исторического и личного бытия.
Как известно, богаты таким откровением были лишь немногие народы и в немногие века: апокалиптика возникла среди еврейства, по-видимому, около VI века до Р. X., захватила раннее христианство и дольше всего держалась в средневековом иудействе, питаясь жгучей атмосферой его мессианизма.
В христианстве же, в частности в восточном, апокалиптическая форма познания почти совершенно утратилась еще в начале средних веков, внезапно вспыхнув тусклым, мечущимся, чадящим пламенем в первое столетие великого русского раскола. Здесь неуместно вдаваться в анализ сложных и многочисленных причин этого ущерба, но невозможно не отметить его связь с тем антиисторизмом религиозного сознания и мира религиозных чувств, который останавливает наше внимание еще у византийских отцов церкви и прямо-таки поражает у представителей русского православия, даже у крупнейших, у таких, в праведности и в наивысшем духовном опыте которых не может быть сомнения. Антиисторизм становится словно обязательным каноном религиозной мысли. Поучительно вспомнить о нерешенных конфликтах между официальным антиисторизмом русского церковного миропонимания и врожденной, иррациональной тягой к апокалиптической форме познания, к метаистории, в духовных и творческих биографиях светских православных писателей и мыслителей: Гоголя, Хомякова, Леонтьева, Достоевского, Владимира Соловьева, Сергея Булгакова.
Но утешение в том, что прикосновение к метаистории может осуществляться и совсем иначе, чем это было разобрано здесь. Об этом свидетельствует тот элемент метаисторического опыта, который можно обнаружить зачастую под огромной толщей антиисторизма – кажущегося или подлинного. Чувство, замечательно переданное Тютчевым, когда личность ощущает себя участницей некоей исторической мистерии, участницей в творчестве и борьбе великих духовных – лучше сказать трансфизических – сил, мощно проявляющихся в роковые минуты истории; разве, не обладая этим чувством, могла бы совершить свой подвиг Жанна д'Арк? Разве мог бы св. Сергий Радонежский – по всему остальному своему мирочувствию настоящий анахорет и аскет – принять столь решительное, даже руководящее участие в политических бурях своего времени? Могли ли бы без этого чувства значительнейшие из пап век за веком пытаться осуществить идею всемирной иерократии, а Лойола – создать организацию, сознательно стремящуюся овладеть механизмом исторического становления человечества? Мог ли бы Гегель без этого чувства, одною работой разума, создать «Философию истории», а Гёте – II часть «Фауста»? Разве мыслимо было бы самосожжение раскольников, если бы ледяной ветер эсхатологического, метаисторического ужаса не остудил в них всякую привязанность к миру сему, уже подпавшему, как им казалось, власти антихриста? Смутное метаисторическое чувство, не просветленное созерцанием и осмыслением, часто приводит к искаженным концепциям, к хаотическим деяниям. Не ощущаем ли мы некий метаисторический пафос в выспренних тирадах вождей Французской революции, в доктринах утопического социализма, в культе Человечества Огюста Конта или в призывах ко всемирному обновлению путем разрушения всех устоев – призывах, принимающих в устах Бакунина тот оттенок, который заставляет вспоминать страстные воззвания иудейских пророков, хотя оратор XIX века вкладывает в эти воззвания новый, даже противоположный мирочувствию древних пророков, смысл? Подобных вопросов можно было бы задавать еще сотни. Непременные же ответы на них приведут к двум важным выводам. Во-первых, станет ясно, что в общем объеме как западной, так и русской культуры подспудный слой апокалиптических переживаний можно обнаружить в неисчислимом количестве явлений, даже чуждых ему на первый взгляд. А во-вторых – что метаисторическое чувство, метаисторический опыт, неосознанный, смутный, сумбурный, противоречивый, вплетается то и дело в творческий процесс: и художественный, и религиозный, и социальный, и даже политический.