
Липовая жена
Моя скамеечка была занята юным тоненьким папой. Он сидел, вытянув далеко вперед джинсовые ноги, похожие на складную металлическую линейку, и, задумчиво пощипывая усики, казалось, безучастно смотрел на резвящегося растрепанного мальчугана. Мальчишка был просто прелесть, не больше двух лет, очень забавный. Увидев нас, он подбежал и, остановившись совсем близко, принялся разглядывать незнакомцев испуганно-веселыми глазами. Борис достал из сетки апельсин и протянул мальчугану.
– Нет, нет, спасибо! – встревоженно воскликнул папа, поднимаясь со скамейки. – Цитрусовые нам нельзя, диатез.
И вдруг стало понятно, что это очень хороший папа. Из тех, которые каторжники.
– Как зовут вашего сыночка? – спросила я, чтобы доставить ему удовольствие.
– Георгий, – горделиво ответил он, и это звучало как «Гьёрги». – Гогия, – пояснил он, и это у него получалось как «Гогья».
Они пошли к забору, туда, где был лаз, и я глядела им вслед и улыбалась.
– Гулять сюда приходят, – сказал Борис. – Такой замечательный парк!
– Они грузины, – продолжая радостно улыбаться, сказала я. – Ты понял? Они грузины. Мне так приятно!
– Если б я знал, что это тебе так приятно, я бы сегодня в справочном узнал, сколько грузин проживает в нашем городе. – Он недоуменно взглянул на меня.
– Ты ничего не понимаешь! – сказала я. – Ничего. Ты зачем сюда пришел – проведать меня? Ну, тогда давай поговорим.
– Давай поговорим! – согласился он.
И мы замолчали.
Я не могла до конца осмыслить то, что он пришел сюда и сидит со мной на скамейке. Мне мерещилось, что это Максим умолил его приехать. Чуть ли не в ногах валялся. Хотя я прекрасно понимала, что никогда в жизни ничего подобного Максим не сделает. Или, может быть, он так подумал: «Бедная, смертельно больная девочка… Подъеду, подарю тридцать минут счастья».
Нет, это тоже исключено. Ведь он не знает, что я влюблена в него вусмерть.
Так вы влюблены, мадемуазель?! Похоже, что я, наконец, призналась себе в этом. Да не все ли равно! Жить, может, осталось шиш на постном масле. Хоть перед собой не юродствуй…
– Я понимаю, что ты в затруднительном положении. С одной стороны, неловко напоминать человеку о его болезни. И вообще это ужасная штука – посещение тяжелобольных. Ты его жалеешь и делаешь участливое лицо, а сам думаешь о том, как бы не проспать завтра на рыбалку. А больной не делает никакого лица, на нем вообще нет лица, он ненавидит тебя и думает: «Ну, давай, спрашивай меня о здоровье, бодрячок! С-скотина…» А иногда ненависть переносится на совершенно неожиданные предметы. Видишь витрину того фотоателье за оградой? Я ее ненавижу. Там поголовно сняты все идиоты. Потому что не может умный человек послушно принимать позы, придуманные бездарным фотографом!
– Это нехороший юмор, – сказал он, серьезно глядя на меня. – Тяжелый.
– Это вообще не юмор, – возразила я. – Чувство юмора за последнее время у меня полностью растворилось. Отбито, как печенка в ужасной пьяной драке. А то, о чем я говорила, – это правда жизни. Так об этом написал бы Чехов. Ты любишь Чехова?
– Очень, – веско сказал он.
– Слава богу! Я презираю тех, кто к нему равнодушен. Просто за людей их не считаю, каких бы успехов в личной и общественной жизни они ни достигли. Я всю жизнь читаю письма Чехова, у нас дома есть собрание его сочинений в двенадцати томах. Многие письма знаю наизусть. Особенно к Лике Мизиновой. Он ей пишет: «Хамски почтительно целую Вашу коробочку с пудрой и завидую Вашим старым сапогам, которые каждый день видят Вас…» А еще так: «Кукуруза души моей!» Обязательно нужно читать примечания к его письмам. Там объясняется, кто такие были Линтварёвы, кто такая Астрономка. Я только никогда не заглядываю в примечание к письму восемьсот восемнадцатому. Там всего одна сноска. Знаешь, какая?
– Какая? – тихо спросил он.
– Всего одна: «Последнее письмо А. П. Чехова».
Мы помолчали.
– Я сегодня ужасно много болтаю, как в прошлый раз. А ты очень молчалив, потому что не знаешь, о чем можно со мной говорить, а о чем нельзя. Я это вижу, и выручаю тебя – говорю, говорю. Но сейчас я замолчу, и тебе станет страшно, и придется что-то сказать. Поэтому я предупреждаю: можно говорить обо всем. И хоть я панически боюсь смерти, даже о смерти.
И тут он не выдержал.
– Почему?! – закричал он. – Ну почему я должен говорить о смерти! и вообще, что это за безобразие! Я еду на свидание к юной девушке, перед этим готовлюсь, наглаживаюсь, бреюсь, черт возьми, так, что в меня глядеться можно, стою час в очереди за апельсинами! А меня вместо девочки встречает занудная старая мымра, и полчаса ведет заупокойные беседы. В боку у нее закололо – подумаешь! Вот у меня третью неделю насморк не проходит!
Он выхватил из кармана наглаженный платок и стал отчаянно громко в него сморкаться. Но у него ничего не получалось, потому что он был абсолютно, восхитительно здоров.
– А ведь на носу зима, – сказала я. – Сезон носовых платков. Что ты будешь делать зимой со своим насморком?
– А вот что: мы кошмарно напьемся, третьим возьмем твоего ненормального братца, будем шататься в обнимку по улицам и горланить песни страшными голосами…
– И пусть идет снег.
– Пусть, – согласился он.
– Изо рта у нас будет валить пар, и все вместе мы будем похожи на огнедышащего дракона. О трех головах.
– Воображение – класс! – сказал он.
– Тебе сегодня скучно со мной?
– А разве ты всегда должна развлекать меня? Ты ведь не гетера и не гейша. Ты просто не можешь всегда быть ярким дивертисментом.
– Понимаешь, – сказала я, – все, оказывается, ужасно сложно. Ты только не кричи на меня: я сейчас все объясню. Я очень много думаю все эти дни, так много, что мне будет даже досадно умереть, не записав эти мысли. Если я отсюда выйду, я напишу книгу и сразу стану великим писателем. Нет, я опять болтаю чушь, и ты ничего не понимаешь!.. Дело вот в чем: на днях умерла Лена. Ты помолчи, не перебивай, ты не знаешь. Лена. Белоснежная девушка, волосы алые, как флаг… Умерла после удачной операции, ни с того ни с сего, с бухты-барахты. Что-то с сердцем случилось. А пять лет назад погибла моя мама. Еще нелепей и страшней. И еще и еще… Теперь ответь мне: к чему вся эта возня со мной? Ведь я совершенно безнадежна. К чему замечательный Макар Илларионович будет делать сложную операцию обреченному человеку? Для чего? Чтобы я прожила еще год, три, пять лет? Но ведь даже если я останусь на подольше, мне все равно нельзя будет иметь детей! А дети – это главный смысл во всем! Хоть с этим ты согласен?
– В том, что главный смысл, согласен. А в остальном… – Он вздохнул и замолчал. И я подумала, что он больше ничего не скажет на эту тему, не может быть, чтобы Макс его не проинструктировал.
– У меня очень старенькая бабуля, – неожиданно твердо и громко сказал он так, что я даже сначала не сообразила, в чем дело, и подумала, что это он мне хочет рассказать анекдот. – Такая старенькая, что каждый день, возвращаясь с работы, я боюсь, что не она откроет мне дверь, – продолжал он, не глядя на меня. И я поняла, что анекдота не будет. – Они с дедом любили друг друга с пятнадцати лет… Потом она пять лет ждала его с войны. Дождалась… Наконец, когда им исполнилось по двадцать два года, они поженились. И прожили семь месяцев, день в день. Ты взрослая девочка, тебе не надо объяснять, что значит ждать семь лет, а прожить с мужем семь месяцев…
Он долго молчал, прежде чем опять заговорить…
– Это был очередной налет банды петлюровцев. Деда повесили на глазах у молодой жены, а ей самой обрубили топором пальцы на обеих руках. Все десять пальцев, до второй фаланги. Но не до конца обрубили, – продолжал он, по-прежнему не глядя на меня, – пальцы потом срослись. Ужасно, правда, срослись, так, что глядеть страшно, но все же какие-никакие, а руки… А в тот момент она, обезумев от боли и горя, волоча болтающиеся, как плети, руки с обрубленными пальцами, оставляя за собой кровавую дорогу, бежала на обрыв, чтобы броситься вниз, в реку. И когда она добежала, то вдруг почувствовала, как отчаянно бьется в животе ребенок, будто понимая, что она собирается сотворить, словно умоляя о жизни… Так она осталась жить, а через три месяца на свет появился мой отец, которого она назвала именем деда.
Он рассказывал это очень просто и твердо. Как-то повествовательно, как сказку рассказывают: «Жили-были…», и от этого делалось еще страшней, и хотелось сжимать кулаки и плакать оттого, что это было на свете.
– Я не знаю, зачем все это тебе рассказываю, – виновато сказал он. – Я приготовил положительные эмоции, целый вагон разных смешных баек. Но когда я тебя увидел, то понял, что анекдоты не нужны. Поэтому рассказываю что-то не то…
– Именно то! – нетерпеливо перебила я его. – Именно, именно то!
– Ну, тогда слушай дальше, – сказал он и переложил сетку с колен на скамейку. Апельсины свободно раскатились, и один даже упал со скамейки, застряв в сетке и оттягивая ее, как баскетбольный мяч.
– У бабули не осталось ни одной дедовской фотографии. Так уж получилось. Люди редко в то время фотографировались, и потом, она тотчас же уехала из того местечка, где жила с дедом. Я не думаю, что она забыла его лицо. Ведь мой отец поразительно похож на деда, а я, говорят, еще больше. Нет, конечно же, она прекрасно помнила его лицо, хотя с того дня прошло пятьдесят лет… и вот – это было совсем недавно, месяца три назад – какие-то дальние родственники из Киева прислали вдруг фотографию деда. Они, наверное, копались в своем альбоме и наткнулись на нее. Сначала не могли вспомнить, кто это, а когда догадались, решили прислать ее нам. И то правда – зачем валяться чужой фотографии в семейном альбоме… Знаешь, я никогда еще не видел таких лиц у людей, какое было у бабушки, когда она распечатала письмо с фотографией. Это, наверное, совсем нелегко – увидеть лицо любимого, которого похоронила пятьдесят лет назад. Она не сказала ни слова и весь день провозилась на кухне. Но ночью… У нас тесновато, и мы с бабушкой спим в одной комнате. И я слушал, как всю ночь она проговорила с дедом. Плакала и говорила: «Ну, как я тебе нравлюсь? Посмотри, на что я стала похожа. Ты видишь эти руки? Что же это творится, боже мой, что твой младший внук на год старше тебя?» Потом, утром, она мне призналась: «Когда я разорвала конверт и оттуда выпала его фотография, у меня помутилось в голове, и я на самую маленькую секунду подумала, что мне двадцать два года, а он уехал на ярмарку, в Дунаевцы, и пишет мне оттуда письмо. А его смерть и вся моя жизнь – просто страшный сон, который снился прошлой ночью…». Больше ничего интересного я не расскажу. Ешь апельсин, не напрасно же я за ними в очереди стоял!
– Мне эта жизнь кажется удивительно прозрачной и ясной… – задумчиво проговорила я. – Можно смотреть на мир сквозь историю этой скорбной жизни и отсеивать добро от зла.
– Я хочу, чтобы ты съела апельсин на моих глазах. Вот смотри, я его почистил. Кто это идет там, в конце аллеи?
– Это Макар Илларионович! – испугалась я. – Сейчас мне влетит за то, что я в тихий час здесь болтаюсь!
– Что за имя, боже! – сказал он. – Карл у Клары украл кораллы.
Но Макар Илларионович даже не остановился. Он стремительно прошел мимо нас, не взглянув на меня, и скупо обронил:
– Долго не сиди. Сыро…
Его удаляющаяся четырехугольная спина в белом халате казалась мне оплотом надежды и веры.
– Кто тебе будет делать операцию, этот Фантомас? – спросил Борис, глядя вслед Макару Илларионовичу. – Что у него с шеей?
– Это фронтовое ранение, – сказала я. – Он мне рассказывал когда-то, очень давно, девять лет назад, и я уже смутно помню эту историю… Наши форсировали реку, а на том берегу были немцы и держали нас под непрерывным огнем. И в общем, кому-то из наших нужно было переплыть реку и что-то узнать или сделать – я в военных делах ничего не понимаю. Но это задание было равносильно смертному приговору – настолько опасной казалась переправа… и тогда командир Макара Илларионовича сказал: «Ребята, нужно плыть. Того, кто решится, представлю к ордену…». И Макар бросился в воду. Вот тогда он и получил это ранение в шею. Но все-таки доплыл, и что полагалось, сделал. А вот голову повернуть – ни в какую!
– А орден? – заинтересовался Борис.
– Командира в том бою убило… Я спросила Макара Илларионовича: когда он плыл, о чем думал? А он говорит: «Вот представь себе, думал, как по селу перед девчатами пройдусь – сапоги начищены, гимнастерка новенькая, а на груди – орден! Когда ранило, тогда уже твердил себе: «Выплыть… выплыть…» Насчет девчат он, конечно, пошутил. Он вообще шутник. Первую операцию он мне сделал, когда я в первый класс пошла. И за день до нее говорил: «Представляешь, будет у вас когда-нибудь урок анатомии, на котором изучают человечьи потроха. А ты встанешь и скажешь: «Видали вы человека с одной почкой?» Вот смеху-то будет!» Но та операция была ерундой по сравнению с предстоящей… Тогда можно было шутить…
Борис ничего не ответил, и мы еще посидели так тихонько, греясь на скудном осеннем солнышке.
Я вспомнила, что сейчас должен прийти Максим, и представила, как буду сидеть между ними – такими красивыми парнями, и как это будет выглядеть.
– Ну ладно… – сказала я ему. – Посидел, и будет. Проваливай…
Я проводила его до проходной, чуть отставая и пытаясь запомнить его плечо и щеку – то, что мне было видно, это на всякий случай, если он больше не придет.
«Случись что-нибудь! – мысленно молила я то обстоятельство, которое еще не имело названия в моем воображении, но которое должно было расставить все по своим полкам… – Случись что-нибудь!» – и случилось. Как тогда, у подъезда.
– Ты знаешь! – вдруг остановившись, воскликнул он. – Совсем забыл тебе рассказать! Я ведь сейчас встретил в автобусе ту девушку, из театра!
– Вот так удача, – проговорила я тусклым голосом, забыв поставить восклицательный знак в конце предложения. – Надеюсь, на сей раз ты не упустил случая…
– Ни за что бы не упустил! Я бы ехал за ней до самой конечной остановки, если бы… – он насмешливо посмотрел на меня, – …если бы не торопился так к тебе!
…Ночью меня разбудило ощущение резкой перемены во всем окружающем мире. Я поднялась и подошла к окну.
Сильный ливень избивал и без того голые, беззащитные деревья. По всему стонущему от ветра парку шла жестокая расправа над теплом и безмятежной ясностью самонадеянной осени.
Я отошла от окна и легла, заложив руки за голову. По противоположной стене до рассвета метались, прося пощады, ошалелые тени деревьев. Все это было похоже на позор разгромленной армии.
А под утро за окном медленно поплыл снег. Он падал бесшумно и устало, как будто не являлся впервые, а возвращался на эту землю. Возвращался мудрый и умиротворенный, пройдя долгий путь, неся в себе некую разгадку и успокоение людям…
Сквозь сон я слышала, как пробуждалась клиника, хлопали двери в умывальной, шаркали больничные тапочки. Потом открылась дверь в нашу палату, быстро вошел Макар Илларионович. Он подошел к моей койке и положил руку мне на плечо. Этот жест был властным и успокаивающим одновременно. И я все поняла.
– Макар Илларионович, что? Уже? Уже сейчас? Неужели сейчас?! – Губы у меня одеревенели, и я не могла ими шевелить.
– Ты у нас умница, – серьезно сказал он. – Ты должна нам помочь. Ты же умница!
– Вы думаете, я могущественная, как Микки-Маус? – пытаясь улыбнуться дрожащими губами, спросила я.
– Микки-Маус тебе в подметки не годится, – так же серьезно сказал он. – Можешь взять его к себе в адъютанты.
Выходя из палаты, он остановился в дверях.
– Ну, отдохни еще секунду. Полежи, подумай о чем-нибудь веселом.
Как только за ним закрылась дверь, я схватила карандаш и, вырвав из ученической тетради листок, быстро написала: «Папа, прости меня! Я всех вас очень люблю!»
И тут я взглянула в окно. И увидела, как на зеленых санках, в рыжем меховом комбинезоне мчит по чистейшему снегу повелитель всего живого на земле Гогия, а запряженный в сани счастливый усатый родитель делает громадные скачки, отчего его нескончаемые ноги еще больше похожи на складную металлическую линейку.
И я скомкала этот жалкий листок бумаги и швырнула его в сторону.
Внезапно я вспомнила бабушку Бориса и подумала: помнит ли она, спустя пятьдесят лет, живое прикосновение своего юного мужа, помнят ли ее руки прикосновение к его рукам? Нет, наверное. Наше тело забывчиво.
Но оно живо – его объятие! Оно ходит по земле в образе его сына и внука, еще больше похожего на деда, чем сын! Жива моя мама. Потому, что я жива. И буду жить долго-долго.
«Да, – подумала я, – вот это главное; люди ходят по земле. Одни и те же люди, только с поправкой на время и обстоятельства. И если понять это и крепко запомнить на всю жизнь, то не будет на земле ни смерти, ни страха…»
«А теперь я полежу еще секунду и подумаю о чем-нибудь веселом, – сказала я себе. – О чем же? Ну хотя бы о том, как завтра или послезавтра придет Борис и напишет мне записку, какой-нибудь каламбур, вроде: «Оперативно здесь делают операции!» А я в ответ на том же листке попрошу медсестру написать крупно, латинскими буквами: «Ро blatu»…»
1976
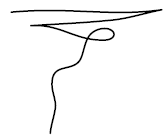
Терновник
Мальчик любил мать. И она любила его страстно. Но ничего толкового из этой любви не получалось.
Впрочем, с матерью вообще было трудно, и мальчик уже притерпелся к выбоинам и ухабам ее характера. Ею правило настроение, поэтому раз пять на день менялась генеральная линия их жизни.
Менялось все, даже название вещей. Например, мать иногда называла квартиру «квартирой», а иногда звучно и возвышенно – «кооператив»!
«Кооператив» – это ему нравилось, это звучало красиво и спортивно, как «авангард» и «рекорд», жаль только, что обычно такое случалось, когда мать заводилась.
– Зачем ты на обоях рисуешь?! Ты с ума сошел? – кричала она неестественно страдальческим голосом. – Ну скажи: ты человек?! Ты не человек! Я хрячу на этот проклятый кооператив, как последний ишак, сижу ночами над этой долбаной левой работой!!!
Когда мать накалялась, она становилась неуправляемой, и лучше было молчать и слушать нечленораздельные выкрики. А еще лучше было смотреть прямо в ее гневные глаза и вовремя состроить на физиономии такое же страдальческое выражение.
Мальчик был очень похож на мать. Она натыкалась на это страдальческое выражение, как натыкаются впотьмах на зеркало, и сразу сникала. Скажет только обессиленно: «Станешь ты когда-нибудь человеком, а?», и все в порядке, можно жить дальше.
С матерью было сложно, но интересно. Когда у нее случалось хорошее настроение, они много чего придумывали и о многом болтали. Вообще в голове у матери водилось столько всего потрясающе интересного, что мальчик готов был слушать ее бесконечно.
– Марина, что тебе сегодня снилось? – спрашивал он, едва открыв глаза.
– А ты молока выпьешь?
– Ну, выпью, только без пенки.
– Без пенки короткий сон будет, – торговалась она.
– Ладно, давай с этой дрянской пенкой. Рассказывай!
– А про что мне снилось: про пиратские сокровища или как эскимосы на льдине мамонтенка нашли?
– Про сокровища… – выбирал он.
…В те редкие минуты, когда мать бывала веселой, он любил ее до слез. Тогда она не выкрикивала непонятных слов, а вела себя как нормальная девчонка из их группы.
– Давай беситься! – в упоительном восторге предлагал он.
Мать в ответ делала свирепую морду, надвигалась на него с растопыренными пальцами, утробно рыча:
– Га-га! Сейчас я буду жмать этого человека!!
Он замирал на миг в сладком ужасе, взвизгивал… И тогда летели по комнате подушки, переворачивались стулья, мать гонялась за ним с ужасными воплями, и в конце концов они валились на тахту, обессиленные от хохота, и он корчился от ее щипков, тычков, щекотания.
Потом она говорила своим голосом:
– Ну, все… Давай наведем порядок. Смотри, не квартира, а черт знает что…
– Давай еще немножко меня пожмаем! – просил он на всякий случай, хотя понимал, что веселью конец, пропало у матери настроение беситься.
Вздыхал и начинал подбирать подушки, поднимать стулья.
Но чаще всего они ругались. Предлогов было – вагон и тележка, выбирай, какой нравится. А уж когда у обоих плохое настроение, тогда особый скандал. Хватала ремень, хлестала, по чему попадала, – не больно, рука у нее была легкая, – но он орал как резаный. От злости. Ссорились нешуточно: он закрывался в туалете и время от времени выкрикивал оттуда:
– Уйду!! К черту от тебя!
– Давай, давай! – кричала она ему из кухни. – Иди!
– Тебе на меня наплювать! Я найду себе другую женщину!
– Давай ищи… Чего ж ты в туалете заперся?..
…Вот что стояло между ними, как стена, что портило, корежило, отравляло ему жизнь, что отнимало у него мать, – Левая Работа.
Непонятно, откуда она бралась, эта Левая Работа, она подстерегала их, как бандит, из-за угла. Наскакивала на их жизнь, как одноглазый пират с кривым ножом, и все подчиняла себе. Кромсала этим ножом все планы: зоопарк в воскресенье, чтение «Тома Сойера» по вечерам – все, все гибло, летело к чертям, разбивалось о проклятую Левую Работу. Можно сказать, она была третьим членом их семьи, самым главным, потому что от нее зависело все: поедут ли они в июле на море, купят ли матери пальто на зиму, внесут ли вовремя взнос за квартиру. Мальчик ненавидел Левую Работу и мучительно ревновал к ней мать.
– Ну почему, почему она – Левая? – спрашивал он с ненавистью.
– Вот балда. Потому что правую я делаю весь день на работе, в редакции. Правлю чужие рукописи. Мне за это зарплату платят. А вот сегодня я накатаю рецензию в один журнал, мне за нее отвалят тридцать рублей, и мы купим тебе сапоги и меховую шапку. Зима же скоро…
В такие дни мать до ночи сидела на кухне, стучала на машинке, и бесполезно было пытаться обратить на себя ее внимание – взгляд отсутствующий, глаза воспаленные, и вся она взвинченная и чужая. Молча подогревала ему ужин, говорила отрывистыми командами, раздражалась из-за пустяков.
– Живо! Раздеться, в постель, чтоб тебя не видно и не слышно! У меня срочная левая работа!
– Чтоб она сдохла… – бормотал мальчик.
Он медленно раздевался, забирался под одеяло и смотрел в окно.
За окном стояло старое дерево. Дерево называлось терновник. На нем колючки росли, здоровенные, острые. Пацаны такими колючками по голубям из рогатки стреляют. Мать однажды встала у окна, прижалась лбом к стеклу и сказала мальчику:
– Вот дерево терновник. Очень древнее дерево. Колючки видишь? Это тернии. Из таких колючек люди однажды сплели венок и надели на голову одному человеку.
– За что? – испугался он.
– А непонятно… До сих пор непонятно…
– Больно было? – сочувствуя неизвестной жертве, спросил он.
– Больно, – согласилась она просто.
– Он плакал?
– Нет.
– А-а, – догадался мальчик. – Он был советский партизан…
Мать молча смотрела в окно на старый терновник.
– А как его звали? – спросил он.
Она вздохнула и сказала отчетливо:
– Иисус Христос…
Терновник тянул к самой решетке окна скрюченную руку с корявыми пальцами, как тот нищий у магазина, которому они с матерью всегда дают гривенник. Если присмотреться, можно различить в сплетении веток большую корявую букву Я, она будто шагает по перекладине решетки.
Мальчик лежал, глядел на букву Я и придумывал для нее разные пути-дороги. Правда, у него не получалось так интересно, как у матери. Машинка на кухне то тараторила бойко, то замирала на несколько минут.
Тогда он вставал и выходил на кухню. Мать сидела над машинкой сутулясь, пристально глядя в заправленный лист. Прядь волос свисала на лоб.
– Ну? – коротко спрашивала она, не глядя на мальчика.
– Я пить хочу.
– Пей и марш в постель!
– А ты скоро ляжешь?
– Нет. Я занята…
– А почему он деньги просит?
– Кто?! – вскрикивала она раздраженно.
– Нищий возле магазина.
– Иди спать! Мне некогда. Потом.
– Разве он не может заработать?
– Ты отстанешь от меня сегодня?! – кричала мать измученным голосом. – Мне завтра передачу на радио сдавать! Марш в постель!
Мальчик молча уходил, ложился.
Но проходила минута-две, и стул на кухне с грохотом отодвигался, в комнату вбегала мать и отрывисто, нервно бросала:
– Не может заработать! Понимаешь?! Бывает так. Сил нет у человека. Нет сил ни заработать, ни жить на свете. Может, горе было большое, война, может, еще что… Спился! Сломался… Нет сил!
– А у тебя есть силы? – обеспокоенно спрашивал он.
– Здрасте, сравнил! – возмущалась она и убегала на кухню – стучать-выстукивать проклятую Левую Работу.
У матери силы были, очень много было сил. И вообще мальчик считал, что они живут богато. Сначала, когда ушли от отца, они жили у материной подруги тети Тамары. Там было хорошо, но мать однажды поругалась с дядей Сережей из-за какого-то Сталина. Мальчик думал сначала, что Сталин – это Маринин знакомый, который ей здорово насолил. Но оказалось – нет, она его в глаза не видела. Тогда зачем из-за незнакомого человека ссориться с друзьями! Мать как-то и ему принялась рассказывать про Сталина, но он пропустил мимо ушей – скучная оказалась история.