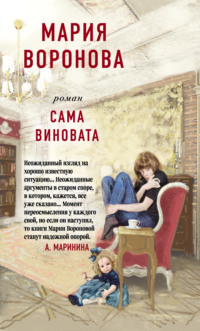
Сама виновата
Кирилл снова поблагодарил и осторожно поставил пустую чашку на столик.
– Может быть, по бокалу вина за грядущие успехи?
– Простите, думаю, что это лишнее.
Полина засмеялась, с удовольствием наблюдая, как Мостовой становится неловким и скованным. А глазки-то разгорелись, уже небось предвкушает славу и успех. Сейчас главное – не показать своего интереса. Наживку он заглотил, теперь никуда не денется.
Она запрокинула голову, давая ему возможность оценить свою тонкую длинную шею без единой морщинки.
– Ну, раз выпить не хотите, придется нам с вами как следует поработать.
На это Кирилл охотно кивнул.
Полина выпрямилась и нахмурилась, как строгая деловая женщина:
– В первую очередь нужно выбрать четыре лучших стихотворения, два я положу на стол редактору и два передам в журнал. Потом надо довести их до совершенства, чтобы у редакторов руки затряслись от вожделения. Ну и наконец вы напишете краткую автобиографию, а я – небольшой вам панегирик. Согласны вы с таким планом?
Кирилл все так же деловито кивнул.
Полина встала:
– Недели вам будет достаточно?
– Вполне.
Кирилл поднялся, рассыпаясь в благодарностях. Полина протянула ему руку ладонью вниз, надеялась, что поцелует, но он ограничился быстрым рукопожатием.
На пороге Полина не удержалась, быстрым, почти неуловимым жестом смахнула несуществующую пылинку с его шарфа. Кирилл в сотый раз сказал: «Спасибо, Полина Александровна», – и ушел.
«Обещал позвонить, как будет готово, – пробормотала Полина, упав навзничь на мамину кровать, – и что-то мне подсказывает, что ты несильно станешь с этим тянуть. Главное ты понял, Кирюшенька, что я – твой пропуск в мир славы и народного признания. Не угодишь мне, так и останешься чернорабочим на заводе, или где ты там пашешь. Спасибо, спасибо… Знаешь, свои спасибо куда засунь? Взрослый вроде бы человек, должен понимать, что за любовника женщина будет впрягаться, а за чужого мужика – ни при каких обстоятельствах. Даже за тысячу спасибо! Даже за миллион! Ладно, будем считать, что ты первый и последний раз тут дурака из себя строил».
Интересно, о чем он вообще думал? На… сколько там ему? На тридцатом году жизни еще верит, что когда девушка приглашает молодого человека пить чай, то на самом деле хочет чаю? Неужели бедняга Кирилл настолько наивен, что верит, будто кто-то реально станет суетиться исключительно ради умножения славы великой русской поэзии?
А если она ему не нравится? Полина засмеялась. Ничего, главное – лечь с ним в постель, а там уж она подарит ему такое наслаждение, от которого он никогда в жизни не сможет отказаться.
* * *Старый хирург из ЦРБ, вызванный замещать Семена, пока он ездил на похороны матери, не спешил уезжать. Молча сидел в ординаторской в накинутом на манер бурки тулупе и курил, стряхивая пепел в старую чашку Петри. Отчитываться ему было не в чем, за три дня, которые Семен провел в Ленинграде, никто не заболел и не поправился.
Семен думал, что этот тощий жилистый старик найдет в его работе кучу недостатков, но хирург, возвращая пачку историй, сказал только: «Добро, добро…»
Заглянул механизатор Калюжный и стал канючить, что хочет домой.
– В палату иди, – цыкнул хирург.
– Но я нормально себя чувствую.
– Так, Калюжный, здесь я врач и я решаю, кто здоровый, кто больной.
Вихрастая голова исчезла.
– Завтра выпишешь его. Лень было с эпикризом возиться, – сказал старик и глубоко затянулся. – Ты что сидишь-то? Доставай давай.
Семен заглянул в шкаф. Местные были люди благодарные, носили ему то десяточек яиц, то молочко, то шматочек сала, то картошку, но алкоголь дарили редко, сами испытывая в нем острую потребность. К счастью, с лета стояла на верхней полке бутылка хорошего коньяка – благодарность дачников за ущемленную грыжу.
– Летучий пленник, запертый в стекле, – улыбнулся он, – напоминает в стужу и мороз, о том, что лето было на земле[1].
– Наливай, шекспировед. Больно ты культурный для этих мест.
У Семена не было рюмок, и он сходил на пост, взял две мензурки толстого зеленого стекла. От них тянуло лекарством, но Семен решил, что ничего страшного.
– Ну, помянем, – сказал старик, – пусть земля пухом.
Семен молча выпил, зная, что это не поможет.
– Ты как вообще, держишься?
– А куда деваться? Вы уедете, так кто-то должен здесь остаться.
– Вот и правильно.
Хирург быстро наполнил по второй, заметив, что с этим делом вообще надо быть поаккуратнее.
– Да я уж понял.
– Смотри, не увлекайся, горе не заливай.
– Не буду. Я вообще как-то не верю, что это по-настоящему и ничего уже не исправить.
– Понимаю тебя.
– А вы еще раз сможете подменить? – спросил Семен. – Не сейчас, ближе к весне?
Хирург пожал плечами и уставился в окно:
– Не знаю, парень. Не буду обещать. Через пару недель – пожалуйста, а дальше не знаю. А что тебе?
– Да вот машину хочу на рынке купить. Мне мама, оказывается, копила, – Семен глубоко вздохнул, чтобы не расплакаться, – надеялась, что буду возить ее сюда на выходные… Деньги собрала и умерла. Так тут и не побывала.
Старик молча покачал головой.
– И я не успел. Все думал, что как-нибудь отпрошусь, подменюсь, может, и все откладывал, откладывал… И вот не успел.
– Да, без машины тут тяжело, – невпопад вздохнул дед.
– А с другой стороны, теперь зачем? Теперь мамы нет, можно ехать работать куда хочешь. В Комсомольск-на-Амуре вот звали… Просто никак не пойму, что больше меня здесь никто не ждет.
– А ты хочешь отсюда уехать?
– Ну конечно! Здесь будущего нет.
– А, ясно, – старик ухмыльнулся и снова налил.
Семен взял из его пачки папиросу, почему-то решив, что если покурит, то не так быстро опьянеет.
– У меня рак, Сеня, – сказал хирург, – три операции я перенес, можно сказать, бежал от смерти, как от голодной собаки, кидая ей куски своего тела, но сейчас уже неоперабельно. Поэтому я и не уверен, что смогу тебя подменить ближе к весне, так что про «будущего нет» это ты кому другому расскажи.
– Извините, – смутился Семен.
Но хирург бодро махнул рукой:
– Осталась мне пара месяцев, наверно, но сегодня я жив точно так же, как и ты.
– А я, с другой стороны, завтра могу поскользнуться и шею себе сломать.
– Вот именно. Будущего, Сенечка, нет вообще ни у кого. Есть настоящее, им и живи.
Они подняли свои мензурки и сильно, от души чокнулись.
– Женись на хорошей девушке, и найдешь счастье даже в этой глухомани. Я ведь тоже сто лет назад подавал большие надежды. Тоже был мальчик из хорошей семьи, наукой занимался, а потом война, и полетел я на нее заурядврачом. После победы хотел восстановиться, доучиться шестой курс, в ординатуру поступить, но куда там… Новая поросль подошла, и оказался я в деревенской больничке, и ни одного дня об этом не жалел.
– Хотел бы и я так. Но только у меня уже диссертация была написана! Почти.
– А защититься не дали?
– Не дали.
– А дали бы – что изменилось?
Семен озадаченно взглянул на старика.
– Третий глаз у тебя открылся бы? Или что? Да ничто, только в заднице бы засвербило, что пора докторскую писать. А тут ты настоящее дело делаешь.
– Угу, – хмуро буркнул Семен. – Алкашам слюни утираю.
– Однако ж ты не мог просто так взять и уехать. Меня прислали.
– И что?
– Стало быть, нужен ты здесь. А на кафедре – сваливай хоть на месяц, никто и внимания не обратит.
Выпив, Семен подумал, что дед, пожалуй, прав. Завтра он протрезвеет и снова станет с тоской заглядывать в свое безнадежное будущее, жалеть об упущенных возможностях, и пытаться понять, что мамы больше нет, и терзаться, что упустил эти последние полгода, когда мог быть рядом с нею. Будет злиться на Полину Поплавскую, из-за которой произошла их разлука, словом, отчаяние снова зажмет его в свои тиски.
Но это все завтра, а сегодня он понимает, что у него ничего нет, кроме этой минуты.
* * *Володя заплакал, и Ирина дала ему грудь. Это было, конечно, неправильно, все авторитеты, включая ее собственную маму, твердят, что кормить надо строго по часам, а в остальное время вообще не подходить к ребенку. Пусть плачет, привыкает, что жизнь – суровая штука. Ирина слушала, теоретически соглашалась, но делала по-своему. Жизнь действительно не пряник, так что нечего самой прибавлять этой жизни суровости.
Сын ел, а Ирина смотрела на спящего мужа. В отблесках уличных фонарей лицо его казалось незнакомым, будто кто-то чужой прилег на ее постель.
Да и постель не ее, здесь все чужое. Дом, в котором она не росла, мебель, которую не покупала. Просторная кладовка забита старым хламом, как у всех, но это хлам Кирилла, а не ее. Свой она вынесла на помойку при переезде.
Ей некуда отсюда уйти. Ирина вздохнула.
Володя уснул, выпустил грудь и засопел, сосредоточенно хмурясь. Ирина осторожно положила его в кроватку, а сама вышла на кухню – попить чаю с молоком для лучшей лактации. Ну и с печеньем, что уж стесняться. Уже все равно.
Хоть и не было тому никаких прямых доказательств, но Ирина почти не сомневалась, что муж ей не верен. Влюбился в кого-то и или уже изменяет, или только собирается. Снова звонила девушка, просила Кирилла, и по тому, как издевательски она растягивала слова, Ирина поняла: она прекрасно знает, что его нет дома, просто хочет поиздеваться над обманутой женой.
И только удалось убедить себя, что это ничего не значит, как Кирилл задержался якобы на работе и пришел домой поздно, явно пахнущий духами «Пуазон», отвратительными, но модными.
И это можно было бы как-то объяснить, только Кирилл всегда был с нею честен, не привык обманывать, поэтому не сумел произнести «я задержался на работе» хоть сколько-нибудь правдоподобно.
Ирина сделала вид, что верит, и молча накормила мужа, а потом легла рядом с ним, но ничего не случилось. Кирилл нежно поцеловал ее, отвернулся и уснул.
Все эти поздние возвращения, следы чужих духов, звонки… Сами по себе они ничего не значат. Нормальная женщина на них и внимания не обратит, если не чувствует древним первобытным инстинктом, что муж к ней переменился. Неверный муж может соблюдать конспирацию не хуже Штирлица, но нельзя скрыть от жены, что больше ее не любишь и мысли твои заняты другой.
Последнюю неделю Кирилл сам не свой. Хмурый, рассеянный… После рождения Володи муж, вернувшись с работы, сразу включался в хозяйство, так что Ирине приходилось гнать его на диван или за письменный стол, а теперь он дежурно спрашивает, нет ли для него поручений, и уходит сидеть над своими бумагами.
Допустим, Кирилл врет, потому что снова ходит в свой рок-клуб и не хочет, чтобы она об этом знала. Но зачем скрывать, если Ирина тысячу раз говорила, что не против, а, наоборот, очень даже за. Да и пахло бы от него после сейшена, прямо скажем, совершенно по-другому.
Она налила себе чайку, щедро добавила молока из бумажной пирамидки и протянула руку к вазочке с сухарями.
Все равно уже. Потеряла привлекательность, так и без разницы, сколько весить, восемьдесят килограммов или сто.
У нее двое детей, так что выступать со сценами ревности нельзя. Егор привязался к Кириллу, относится к нему как к отцу, кто знает, как в нем отзовется новое мужское предательство? Родной папа бросил, а новый мамин муж сначала стал родным папой, а потом тоже бросил… Нет, такие перегрузки не нужны детской психике.
Придется терпеть, изо всех сил не замечать очевидного, потому что если она ткнет Кирилла носом в доказательства его неверности, то тут два варианта. Или он с облегчением предложит развод, или просто перестанет стесняться. Детям нужен отец, поэтому будем жить как жили, но от любовницы я отказываться не собираюсь. Терпи.
«Дорогая Ирина Андреевна, – усмехнулась она, – а ведь когда вы сами валялись с женатым мужиком, вы же его нисколько не порицали. Наоборот, он казался вам очень умным и порядочным, это жаба-жена была во всем виновата. Так и оставайтесь объективны, не катите теперь бочку на своего мужа».
* * *Наконец до Ольги дошла очередь читать сборник зарубежного детектива. Улегшись в кровать, она с нетерпением раскрыла слегка потрепанный томик, но буквы оставались буквами, слова – словами, и в текст не получилось окунуться, как в море.
Ольга попробовала другую повесть – и снова ничего.
Неужели она навсегда утратила способность погружаться в книгу? Если так, тогда беда.
Вошел муж, театрально поежился и направился к окну:
– Милая, давай все-таки закроем форточку!
Ольга закатила глаза. Она не понимала, как это человеку может не хватить одного «нет», зачем снова и снова возвращаться к тому, что решено?
Сама она с детства приучена, что нет – значит нет. Спасибо маме, которая никогда ни при каких обстоятельствах не поддавалась на уговоры. Как сказала, так и будет. В детстве Ольга страдала, зато теперь никогда ни перед кем не унижается и не канючит. Чужое решение – такое же обстоятельство, как погода, надо его учитывать, а менять бессмысленно.
Наверное, именно это качество помогло ей быстро продвинуться по карьерной лестнице.
Другое дело муж. Вроде бы тихий, неконфликтный человек, со всем соглашается, а на самом деле глаз высосет, пока своего не добьется. Даже помирашки устраивает, как бабка старая.
– Мы же договорились, что спим при свежем воздухе, – буркнула Ольга.
– Ну да, но все-таки холодно и сквозняк, – продолжил канючить муж. – Нас продует, дорогая.
Бабка и есть бабка.
– Не выдумывай, там щелка три миллиметра.
– И через нее очень сильно сифонит.
– Слушай, но мы же решили! – рассердилась Ольга. – Самому ведь приятнее проснуться со свежей головой.
Муж кивнул, но от окна не отходил.
– Научными исследованиями доказано, – начала Ольга, стараясь держать себя в руках, – что в спальне должно быть не выше четырнадцати градусов, тогда происходит максимально здоровый сон. И мы, кажется, выяснили, что ты можешь взять дополнительное одеяло, если тебе холодно, а если мне душно, то я ничего с этим сделать не могу, поэтому справедливо спать при открытой форточке.
Помолчав немного, муж шмыгнул носом, потом еще раз. Получалось не слишком убедительно.
– Похоже, я уже простыл. Давай все-таки закроем, дорогая? Ты же не хочешь, чтобы я разболелся?
Ольга захлопнула книгу и отвернулась, бросив: «Да подавись!»
Раздался стук затворяемой форточки, и Ольгу затрясло от злости. И слово это дурацкое «простыл»… Из лексикона бабок, нормальные люди говорят «простудился». Нет, так нельзя. Надо быть настоящей женщиной, доброй и уступчивой, и заботиться о своем муже. А что было, то прошло, и пора вырвать все воспоминания, как вредоносный сорняк.
Забравшись под одеяло, муж прижался к ней с вполне определенными намерениями.
– Боря, я не хочу.
– А мы легонько. Я буду очень осторожным, не бойся.
– Я еще не готова.
– А тебе не кажется, что пора?
– Нет.
– Но уже достаточно времени прошло…
– А тебе не кажется, что это мне решать?
Муж обиженно засопел:
– Иногда я думаю, что ты меня просто не любишь.
Ольга не ответила.
– И никогда не любила.
Она села на кровати.
– Я, в конце концов, тоже человек, и у меня тоже есть потребности, но это, похоже, никого не волнует! Может, тебе было бы легче, если бы меня убили?
Ольга знала, что надо немедленно обнять мужа, сказать, что любит его, и отдаться, но она словно окаменела.
…Отпуск им, как бездетным, дали в ноябре, и они взяли путевки в Пицунду, уговорив себя, что это еще не безвременье, а самый конец бархатного сезона.
Впрочем, Ольга так вымоталась на работе за год, что ей и не нужно было никаких купаний и прочих летних радостей. Трехразового питания и долгих прогулок вполне хватало.
Как только заселились, она сразу пошла в местную библиотеку и набрала там кучу книг.
Целых десять дней она была не то чтобы счастлива, но совершенно безмятежна, пока не решила вытащить мужа на романтическую прогулку. Темная южная ночь, плеск волн, Млечный Путь и ковш Большой Медведицы – что может быть лучше, чтобы вспомнить, что они еще молоды и любимы?
И забрели-то они не в самое глухое место, но нарвались на троих подонков, то ли пьяных, то ли, того хуже, одурманенных наркотиками.
Борис отдал им деньги и часы сразу, но мужики схватили Ольгу и повалили на песок. Ночь, темно и пусто, стесняться некого.
Она отбивалась из последних сил, орала до хрипоты, и, в конце концов, ее услышали. В самый последний момент, когда она уже ни на что не надеялась, появились какие-то ребята, кажется, их тоже было трое, и насильники убежали.
Ей должно было быть очень страшно и больно, но Ольга чувствовала только ужас оттого, что муж, самый любимый и родной человек, стоит неподвижно, с белыми от страха глазами. Он ничего не сделал, чтобы защитить ее, не попытался даже ударить, просто стоял, как завороженный глядя на нож, которым перед ним помахивал один хулиган, пока другие двое заваливали Ольгу.
Он даже не кричал.
Потом он утешал ее, жалел, опекал с нежностью родной матери, а Ольга снова ничего не чувствовала, кроме тошноты от кислого запаха страха, исходившего от него.
Все оставшиеся до отъезда дни она пластом пролежала в номере, потому что хулиганы помяли ее довольно сильно. На теле живого места не осталось от синяков, и голова тоже была какая-то чугунная, не своя.
Муж носил ей чаек, мазал мазью «Арника» и ворковал, что иначе, чем он, поступить было никак нельзя. Куда бы он попер один против троих? Его бы сразу убили, прежде чем он бы что-то успел, а потом и с ней бы не стали церемониться. Пролитая кровь развязала бы негодяям руки, и ее они тоже не оставили бы в живых. Он очень хотел уберечь ее и обязательно бы вступился, если бы напали не трое, а хотя бы двое.
Ольга слушала и думала, что он, пожалуй, прав. Одиночка против стаи не имеет шансов. Потом, бандиты – примитивные существа, не способны думать дальше своих инстинктов. В тот момент их обуял половой инстинкт, они хотели бабу, а муж был всего лишь досадным препятствием. Пока тихо стоит, не мешает, пусть живет. Сразу трое все равно на бабу не залезут, один может и покараулить. А вот муж сопротивляющийся не дает никому приступить к делу, надо его угомонить. Ну а уж раз мужика пришлось кончить, то и бабу порешим.
К отъезду она уговорила себя, что муж действительно не мог поступить иначе. Да, она билась и боролась, но ей не приставляли ножа к горлу.
И вовсе он не оцепенел от страха, а проявил разумную выдержку и поступил абсолютно правильно, иначе они оба были бы уже мертвы.
А потом был так ласков, так предупредителен и нежен с нею, как не может плохой человек. Он мог бы чувствовать к ней отвращение, как к сломленной, оскверненной женщине, но он ни на секунду не показал, что стал относиться к ней как-то иначе, чем раньше.
Через ее руки прошло столько уголовных дел, когда человека убивали за то, что он защищался, что она просто не имеет права осуждать собственного мужа. Герои-победители бывают только в книгах и фильмах, а в жизни они гибнут до того, как совершают подвиг.
Ее муж – обычный человек, со своими достоинствами и недостатками, просто из-за пережитого потрясения она видит в нем только плохое, но скоро это пройдет.
* * *Полина не любила Дом писателей. Ей казалось, что в этом светлом здании, снаружи и внутри похожем на торт, нельзя создавать настоящие произведения, все должно выходить веселенькое, кудрявенькое и в розочку. Наверное, когда тут ходили пропахшие порохом революционные матросы, царапая мрамор штыками своих винтовок, то зефирные интерьеры только подчеркивали величие перемен, а теперь бродят скучные, унылые люди, вслух восхваляющие советскую власть, а украдкой лелеющие в себе жиденькие дворянские корни, и красота оборачивается невыносимой пошлостью.
По этой же причине Полине не нравилось бывать и в Эрмитаже, и в Кировском театре: будто проваливаешься в небытие, в эпоху, которая прошла и больше не существует.
Исключением был Дворец пионеров: там почему-то не чувствовалось, что это бывший императорский дворец. Полина несколько раз приходила туда выступать в литературном клубе «Отвага» перед юными дарованиями. Приятно было видеть, с какой глупой серьезностью они слушают, с какой нелепой восторженностью рассуждают, и понимать, что сама она никогда такой дурочкой не была, в двенадцать лет уже видела жизнь как она есть.
Надо будет после каникул туда наведаться…
Отдав шубку гардеробщику, Полина направилась в конференц-зал. Сегодня праздничный вечер по случаю наступающего Нового года, и на торжественную часть не прийти нельзя, а на банкет Полина никогда не оставалась. Надо хранить свой образ воздушной девушки не от мира сего, а не хлестать водку вместе со всякими колхозниками от литературы.
Она зашла в туалет. Перед широким зеркалом поправляли макияж две тумбообразные тетки, затянутые в бархат. На Полину они даже не взглянули – серьезные жены серьезных мужей. Чего стоит какая-то там поэтесса по сравнению с их номенклатурными возможностями.
Полина подошла и встала между ними. Получился неплохой триптих – две размалеванные пестрые кучи и посередине она – тонкая, как веточка. Талию можно двумя пальцами обхватить.
Даже ради праздника она не изменила черному цвету. Любимый бадлон, только сегодня вместо черных джинсов – прямая черная юбка, неохотная уступка общественному мнению. Ну да ладно, пусть посмотрят в кои-то веки на ее изящные лодыжки.
Никаких башен из лака она на голове вертеть не стала, как обычно, расчесала волосы на прямой пробор. Перед выходом надела тонкую золотую цепочку с кулоном в виде цветка, и этого достаточно.
Полина отвела прядь волос за ухо и чуть пожевала губами, чтобы стали ярче. Нет никакого обмана зрения – зеркало отражает элегантную девушку, очевидно, самую красивую в Доме писателей сегодня. Почему же Кирилл не соблазнился?
Поморщившись от неприятного воспоминания, Полина вышла в коридор и уловила легкий запах кофе, доносящийся из буфета, что ж, сегодня она чуть не рассчитала время и приехала раньше, чем собиралась, так что успеет выпить чашечку до начала нудной говорильни.
Возле прилавка змеилась очередь, но это, конечно, не являлось препятствием для нее. Как только Полина вошла в буфет, так отовсюду сразу замахали, закричали: «Идите к нам!», но проворнее остальных оказался Григорий Андреевич. Он словно материализовался из воздуха и захлопотал, так что через секунду она уже сидела за круглым столиком, накрытым длинной белой скатертью, и цедила ароматный, но кислый кофеек.
– Как хорошо, что мы встретились, – редактор заглянул ей в глаза, – а то я уж думал вам домой звонить.
– Что-то не так с моей рукописью?
– Нет-нет, все отлично, не беспокойтесь. Я о другом. Помните, я вас просил представить публике одного молодого поэта?
Полина нахмурилась. Еще бы она не помнила!
Прошла оговоренная неделя после их встречи, но Кирилл не давал о себе знать, а первой звонить было никак нельзя. Ты никогда не делаешь шагов к человеку, чья судьба в твоих руках, это он должен ползать перед тобой на коленях.
Несколько дней Полина провела, вздрагивая от каждого телефонного звонка. Порой ожидание так утомляло ее, что она уходила из дома специально, чтобы думать, что вот он сейчас звонит, а ее нет.
Странно, обычно волнения и любовные переживания вдохновляют на творчество, но ей писать совершенно не хотелось. Ни мыслей, ни образов, только сосущая пустота внутри.
Зато она написала два длинных программных стихотворения о комсомоле, давным-давно заказанных ей журналом и кои редактор уже почти отчаялась из нее выбить.
Полина не удержалась, все-таки два раза позвонила Кириллу в те часы, когда он заведомо был на работе. Отвечал молодой женский голос, один раз Полина расслышала плач младенца, и настроение сразу испортилось.
Потом она вспомнила популярную пословицу, что жена не стена, можно отодвинуть, и повеселела. Пусть Кирилл киснет возле своего душного домашнего очага, а она подарит ему настоящее чувство.
Наконец он позвонил и сказал, что, кажется, сделал четыре стихотворения, за которые не стыдно. Полина выдержала паузу, во время которой переворачивала листы воображаемого ежедневника, и пригласила его в гости «скажем, послезавтра в восемь».
Только Кирилл не с восторгом согласился, а сказал, что ему неловко доставлять ей лишние хлопоты, поэтому он принесет рукопись куда-нибудь на ее маршрут или кинет в почтовый ящик.
– Но я хотела бы обсудить ваши стихи, прежде чем положу их на стол редактору.
– Давайте я в редакцию подъеду или приглашу вас в кафе.
– В редакцию вас не пропустят, а в советский общепит я, извините, брезгую.
В конце концов удалось втолковать Кириллу, что нигде не будет ей удобнее, чем у себя дома.
Кирилл пришел с дежурными розовыми гвоздиками, подал пластиковую папку с рукописью, которая на этот раз была отпечатана аккуратно и чистенько, и снова сел на краешек дивана, как аршин проглотил.

