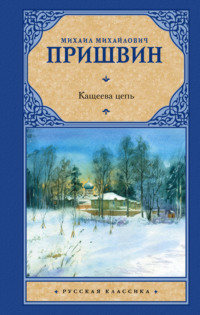
Кащеева цепь
– Ну, я скажу: она меня не любит.
– Вера Соколова?
– Она!
– Ну, вот что я тебе посоветую, если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую страну. Поедем с тобою в Азию открывать забытые страны.
– Я бы поехал. Но как же уедешь?
– А вот подумаем.
На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюрик сговорились, спрятались в шинелях под вешалками против учительской и, выждав, когда Заяц с Обезьяном по звонку вышли оттуда, бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли догадаться, что так начинается экспедиция в забытые страны, и прямо же всех троих заперли в карцер.
Счастливо все шло необыкновенно; было так удивительно Курымушке, что Рюрик и Ахилл сразу все поняли. Как только он сказал про экспедицию в Азию через Иерусалим в забытые страны за голубыми бобрами, Рюрик ответил коротко:
– Это можно. Ахилл еще короче:
– Ну, что ж.
Курымушка даже опешил и спросил:
– А как же оружие, лодка, съестные припасы?
– Оружие, – ответил Рюрик, – у меня есть на всех троих: три ружья, три сабли, три револьвера, у отца я стащу золотые часы, – на это дело не грех и стащить, – сегодня же я их продам, куплю лодку, припасы.
– Только надо делать как можно скорее, – сказал Курымушка, – чтоб успеть до замерзания рек пробраться в южные теплые моря.
– Завтра поедем! – сказал Ахилл. Рюрик остановил:
– Не успеем завтра. Послезавтра.
– Я напишу прощальные стихи, – сказал Ахилл.
– Я составлю подробный план путешествия, – вызвался Курымушка.
– Тогда за работу немедленно, – распорядился Рюрик. – Ты, Алпатов, черти план, ты, Ахилл, пиши стихи, я буду считать, что взять с собой, послезавтра едем.
Кум
Как чудесно бывает, пока что-то заманивает в свою судьбу перейти, в то святое святых, где я сам с собой и, значит, весь мир со мной. Но сколько людей останавливаются в страхе у порога своей судьбы, у росстани, где все три пути заказаны. Тут, у росстани, впереди хоть и остается приманка, а уже дает себя знать за спиною котомка своей судьбы. Это сразу почувствовал Курымушка, едва только состоялось неизменное решение ехать открывать забытые страны. Начались заботы, и открылся чей-то голос, неизменно день и ночь в глубине души повторяющий: «Не надо, не надо, нельзя, так не бывает, этого никто не делает».
Так одному, а другой, как Сережа Астахов, со своими прекрасными бархатными глазами в длинных черных ресницах, ждет и мечтает, что своя судьба тихим гостем придет и ласково, как невесту, поведет его к своему алтарю. Вот тоже и Сережа Астахов, – чем не путешественник в забытые страны? Он знает время прилета и отлета каждой птички, знает, куда они, прилетев, деваются, как живут, где можно разыскать их гнездышко; облюбовал себе в полях и лесах все цветки и хворостинки, ему ли не ехать! А вот и в голову никому не пришло предложить ему путешествие, и, напротив, избрали его хранителем тайн: он передаст письмо Вере Соколовой, он обойдет дома путешественников и скажет хозяевам, что их заперли в карцер на двадцать четыре часа, чтобы о них не тревожились. Стоило бы Сереже сказать: «Я с вами», – и он тоже бы поехал в Азию за голубыми бобрами. Но Сережа проплакал всю ночь и сказать не решился и так по своей застенчивости пропустил случай еще в детстве заглянуть в лицо своей судьбы. В назначенный час, перед уроками, Сережа спустился к реке, перешел деревянный, на бочках лежащий мост, от него завернул по берегу влево и тут увидел, как путешественники уже сдвигали с берега лодку. Какой-то мещанин в синей поддевке полюбопытствовал, куда едут ребята на лодке.
– В деревню на мельницу.
– Кто же у вас там на мельнице?
– Тетушка Арина Родионовна.
– Не слыхал. Есть Капитолина Ивановна, а Родионовны там не слыхал.
– Мало ли ты чего не слыхал, отстань, не до тебя! Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам стал взбираться, все оглядываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался собор. Тут на известной скамеечке, где всегда вечером кто-нибудь сидит и любуется далью, сел теперь в утренний час Синий. Он видел отсюда, как путешественники расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на солнце вынутые из-под шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить тихую гладь воды, как Сережа тоже поднялся сюда, на лавочку, проводил путешественников глазами до поворота реки, где лодка скрылась, всплакнул и пошел. Синий сзади пошел за Сережей.
Возле женской гимназии Сережа умерил шаг и стал прохаживаться взад и вперед. Синий тоже стал прохаживаться по другой стороне улицы. Начали с разных концов показываться маленькие и большие гимназистки. Сережа каждую оглядывал, наконец, увидев одну, похожую на молодую козочку, подошел к ней, передал письмо и направился в мужскую гимназию. За ним вплотную сзади шел Синий. Сережа вошел в калитку гимназии, и только Синий за ним туда ногу поставил, вдруг с той стороны другой Синий закричал:
– Иван Парамонов! Первый Синий обернулся.
– Бежи скорей, свиней резать начали.
Оба Синие сошлись на середине улицы и во весь дух пустились бежать в ту сторону, где начали резать свиней.
Только уже когда в городе появились объявления о трех сбежавших гимназистах, Синий явился в гимназию и дал свои показания. Прикатил в гимназию на шарабане становой Крупкин, за ним следовала телега с двумя полицейскими. Хорош и могуч был в гимназии знаменитый истребитель конокрадов, багрово-синий и весь наспиртованный. Гимназисты всех классов видели, как Заяц и Обезьян в своих синих вицмундирах вертелись около громадного грузного человека, будто они были бумажные, долго ему что-то рассказывали и просили ни в коем случае не применять оружия.
Услыхав про оружие от бумажных людей, становой сказал:
– Едрёна муха!
И, не обращая больше на них никакого внимания, вышел из гимназии, сел в тележку и покатил. За ним покатилась телега с полицейскими.
– В Азию поехали! – сказали гимназисты.
От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шепотом передавалось из уст в уста, что поехали именно в Азию.
– Как бы не вернули в гимназию?
– Ну, уж, брат, нет, – вспыхнул какой-то горячий гимназист, – теперь уж их не догонят.
Мало того гимназисты – синие прасолы сошлись опять, обсуждали дело серьезно.
– Конечно, – говорил один, – Крупкин ловкач, да ведь мальчишки тоже отчаянные.
– Опять, у них вода, – говорил другой, – река быстрая и сама несет лодку, а ему нужно погонять и погонять.
Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию, ну а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо, и отчего бы им и не доехать до Азии. Все спавшие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны.
Как раз в эти золотые, светлые сентябрьские дни на воле, о которой пишут и мечтают на лавочках, глядя в синюю даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц с севера на юг над реками быстрой Сосной и тихим Доном, через теплые моря, на берега Малой Азии. Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу Сосны. Гуси строгими кораблями торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ночевали вместе с утками на воде, выставляя на своем берегу сторожей.
Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их грудей в чистом воздухе и по каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы, чайки разных пород, еще не трогались и вились на своих гнутых крыльях у самой воды.
Этого наш Курымушка еще никогда не видал и не мог видеть, это можно почувствовать всей душой, только если сам сжег за собой корабли и сам вступил в этот птичий путь, исполненный всякого риска, всяких опасностей. Тогда уже знаешь наверное, что и они там в воздухе не просто кричат, а, так же как мы, разговаривают. Хорошо было, что Рюрик с пяти лет бывал на охоте со своим отцом, все это знал и умел все объяснить, скажет: «Лебедь!» – и Курымушка на всю жизнь от одного слова знает, как летят лебеди и что это значит; скажет: «Гуси!» – и вот что-то очень серьезное, строгое залегает в душу от гусиного полета. Какие-то маленькие пичужки, серебрясь, попискивая, штук сорок зараз, как стая стрел просвистят; подумать только: завтра они перехватят Черное море! Хорошо на минутку выйти из лодки, выглянуть из-под кручи берега в поле и хоть не подкрасться, – где тут подкрасться в открытом, безлесном поле, – а просто посмотреть, как без людей хозяевами в полях ходят на длинных ногах журавли. Раз так видели дроф и даже пустили в них пулю из штуцера; столбом взвилась пыль от удара пули о землю, дрофы разбежались, тяжело полетели, встретились в воздухе с цаплями, не понравилось вместе, и разлетелись в разные стороны: цапли к реке, дрофы в степь. Страшно было в первый раз выстрелить из настоящего ружья, но виду Курымушка не подал, туго прижал ложе к плечу, выстрелил, но промахнулся. В другой раз Рюрик ему крикнул вовремя: «Мушку, мушку!» Он мушку навел, и летящая чайка упала; ее с радостью присоединили к мясному запасу в корме. И так весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые мечты о забытой стране: это Курымушке надолго осталось, что мысль про себя не обман, как все говорят, а вестник прекрасного мира, и что этот мир существует.
Под вечер странно стали смыкаться впереди берега, кажется кончилась река, вот-вот лодка в берег уткнется, а смотришь – опять берега широко расступаются, проехали, и опять смыкаются, будто хотят лодку взять в плен. Позднее все стало как будто ловить лодку: тростники, кусты, деревья, но она все шла и шла по течению, и только это казалось, будто лодка стоит и вокруг все идет и ее окружает.
В темноте ночью, еще больше, чем днем, несметною силой шел перелет: прямо над самыми головами со свистом проносились чирки, кулики разных пород, тяжело шли кряквы и часто шлепались в воду на отдых. Дикие гуси возле самой лодки иногда спускались всем кораблем, кричали, хлопали крыльями так близко, что брызги летели в лицо. Как хорошо было все это слушать, притаив дыхание, в надежде, что глаз каким-нибудь чудом в темноте рассмотрит и можно будет пальнуть из ружья.
Но холод осенней ночи пробирал все больше и больше, и особенно плохо было ногам в сырой, чуть-чуть подтекающей лодке. Попробовали саблями нарубить тростнику, сложили его на дно лодки, легли, но сырость и холод мешали. Если бы на берегу костер развести! Но условились в первую ночь не разводить огня и не выходить на берег, догадываясь, что Крупкин будет ловить, и так он по огню сцапает, что и за ружье не успеешь схватиться, это нельзя. И что это: сон, бред или явь? Слышно Курымушке самому себя, как сопит, и как зубы вдруг будто сорвутся и начнут сами так яро стучать друг о друга, а на берегу все время без перерыва где-то по самому близкому соседству дикие утки между собой переговариваются, и, – что делает этот полусон! – понятен бывает их разговор. Одна говорит: «Пересядь сюда, нам будет потеплее», – другая: «Убирайся с моего места, я тебя не просила, вот еще!..» И так у них всю ночь: то кто-нибудь недоволен, а то вдруг лисицу или хорька почуют, и сразу все заорут так, что и мертвый проснется. Много разных снов ярких видится, что вот хоть рукой ухвати. Так увидал себя Курымушка на теплой чистой постели, и голова его лежит на пуховой подушке в белой наволочке; вот это настоящее было видение и открытие, – никогда в жизни ему не казалось, что так хороша может быть обыкновенная подушка, какая бывает у всех, на каких теперь все, все люди спят в городах и в деревнях, в богатых домах и в бедных.
Ужасный утиный крик перебил его сон. Он проснулся, понял, где он, но подушка так и осталась неотступным видением. В эту самую минуту слышит он у самого своего уха шепот Ахилла:
– Отпустите меня!
«Куда?» – хотел спросить Курымушка, но вместо звука вылетел с яростью треск зубов, челюсть о челюсть.
– И у тебя зубы трещат, – сказал Ахилл. – Ты их рукой придерживай, как я.
Курымушка попробовал, и, правда, вышли слова:
– Куда тебя отпустить?
– Я по бережку тихонько пойду, согреюсь как-нибудь и дойду.
– Куда ты дойдешь?
– Домой.
– До-мой! Ах, ты…
Не то было главное обидно, что вернуться задумал, а что мог себе представить, будто это так близко, что вернуться можно. Курымушке было, будто он уже и в Азию приехал.
– Баба, баба! – повторил он со злостью.
– От бабы бежал и к бабе тянет его, – сказал Рюрик.
– Ну, не буду, ребятушки, не буду, – спохватился Ахилл и, отпустив челюсть, затрещал зубами, будто фунтами орехи посыпались.
– Ишь сыпет, ишь сыпет! – засмеялись товарищи.
А Курымушке скоро опять подушка привиделась, и он стал с этим бороться, но только напрасно, – чем больше он ее отвергал, тем ярче она вновь показывалась: небольшая подушка, такая же чудесная, как на подушке чудесной снилась когда-то страна голубых бобров. Но вот между утками и гусями пошли совсем какие-то иные разговоры.
– Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? – спросил Рюрик.
– Не знаю, а что-то случилось, и по всему берегу одно и то же.
– Это значит – скоро рассвет.
– А как будто еще темнее стало: звезд не видно.
– Всегда перед самым рассветом темнеет, и звезды скрываются: меркнет. Я много с отцом ночевал на утиных охотах: всегда меркнет.
Правда, скоро стало белеть. Теперь не страшно и костер развести. Вот вспыхнуло на берегу маленькое пламя, на востоке начался огромный пожар, и потом, когда солнце взошло, как добродушно оно встретило это маленькое человеческое пламя, и как вкусен был чай с колбасой, и какая радостная сила от солнца вливалась в жилы: этой силой опять все живое поднималось и летело на юг, в теплый край.
– Гуси, гуси летят!
– А там смотри, что там?
– Тоже гуси.
– А там?
– И там гуси.
– Ложись на землю, готовь ружье, кряквы летят.
– Стреляй!
Одна шлепнулась, другая подумала, споткнулась и тоже упала.
– А ты, дурак, хотел к бабам идти!
– Дурак я, дурак!
На охоте всегда так: нужно одну только удачу вначале, и потом пойдет на весь день, будто каждая новая минута готовит новый подарок. Так прошел этот прекрасный день, и ночь прошла у костра в тепле, на сухом тростнике. И еще одна утиная ночь. В полдень третьего дня путешественники услыхали далеко на берегу колокольчики.
– Не становой ли нас догоняет? – спросил Курымушка.
– Очень просто, – ответил Рюрик. – Вот сейчас я это узнаю, он нам кум. Кроме шуток, с отцом ребят крестил, приятель отцу: кум.
Было там на берегу высокое дерево. Рюрик вышел на берег, взобрался на самый верх.
– Ну что, видно?
– Видно, едет шарабан.
– Становой?
– Не знаю, не разберу.
– Скорее же разбирай. Ну?
– Разобрал: становой!
И так он это спокойно сказал, будто в самом деле он своего кума встречает.
– Скорей же слезай!
– Подожди: за ним в телеге два полицейских.
– Слезай же, слезай! Эта за нами!
Но Рюрик слезал не так, как хотелось Курымушке, и Ахилл равнодушно смотрел.
Курымушка вспыхнул от злости, но вдруг ему пришла одна мысль.
– Он нас не поймает, – сказал Курымушка, весь просияв, – слушайтесь только меня. Вытаскивай живо лодку на берег.
– Как вытаскивать, что ты? Удирать надо.
– Вы-тас-ки-вай!
Послушались, вытащили на берег лодку.
– Перевертывай вверх дном.
Тут все и поняли: под лодкой пересидеть станового. Выбили живо лавочки, нос пришелся как раз в ямку из-под камня, и лодка плотно закрыла путешественников.
Колокольчики все приближались. Вот если бы мимо промчался! Но нет, колокольчики затихли, и голос послышался:
– Едрёна муха! Зачем тут лодка на берегу? Стой-ка, я посмотрю.
Подъехали полицейские.
– Это их лодка! – сказал становой. – Только где же они сами?
– В деревне, ваше благородие, – сказал полицейский, – они там, наверно, заночевали, отдыхают, как-никак, а ночки зябкие.
– Ну, вы поезжайте в деревню, а я вот здесь вас подожду и закушу. Еремей, привяжи коня к дереву, Кузька, подай сюда из шарабана кулек.
Полицейские уехали. Становой вытащил из кулька четверть с водкой, поставил на дно и подумал, удивился: «Ночью дождя не было, а лодка мокрая».
– Вот едрёна муха! – сказал он.
Выпил чайный стакан, закусил, посмотрел следы на траве, как они все выходят от воды и уходят под лодку… И запел почему-то:
Чижик, чижик, где ты был?На Фонтанке водку пил…Выпил стаканчик, выпил другой и вдруг заплясал, припевая:
Выпил рюмку, выпил двеЗашумело в голове.– Молодцы, – сказал он вслух, – взяли себе да и поохотились, самое время: осень, перелет. Вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.
– Слышишь? – шепнул Рюрик Курымушке. – Надо бы сдаваться.
– Да, надо бы, – шепнул и Ахилл.
В ответ Курымушка ткнул в нос сначала одному, потом другому.
– Вот как поймаю, – продолжал становой, – прежде всего им водочки, ветчинки, чайку с французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил: отпуск себе устрою. А то и неделю промотаемся, надоели мне эти черти – конокрады.
Рюрик тихонечко пальцем тронул Курымушку, а тот ткнул его в бок кулаком.
С каждой минутой все ненавистней и ненавистней становились Курымушке его товарищи: превратить всю экспедицию в охоту, вернуться с позором в гимназию? Нет, если они сдадутся, он один убежит, но так не вернется.
А полицейские катили обратно.
– Вы, умные люди, – сказал становой, – хорошо сделали.
– Точно так, – ответили полицейские.
– И порядочные дураки.
– Точно так, ваше благородие.
– Вот что, умные дураки, постелите-ка все это вон там, на траве, костер разведите, чайник согрейте. Так! Живо! Теперь нужно гостей звать.
– Слушаем.
– Куда же вы пойдете?
– Не могим знать, ваше благородие.
– Ну, так я вам скажу: лодку эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.
– Слушаем! – сказали полицейские и, взяв лодку за край, повернули на бок.
– Чижик, чижик, где ты был? Пожалуйте, гости дорогие.
– А! и кум тут! Ну, давай поцелуемся.
Становой с Рюриком обнялись, но Курымушка, пока они целовались, схватил ружье, отбежал к дереву и стал за него, как за баррикадой.
Ахилл как осклабился, так и остался с такою же глупою рожей стоять.
Не обращая внимания на Курымушку, такого маленького, Кум угостил вином Рюрика и Ахилла и, увидев четырех убитых крякв, так и ахнул:
– Да мы тут сейчас пир на весь мир устроим: ведь они теперь осенью жирные.
И велел четыре ямки копать; в эти ямки прямо в перьях уложили уток, засыпали горячей золой, костер над ними развели.
– А еще бы хорошо осеннего дупеля убить, да его бы во французскую булку сырого, а булку тоже бы в ямку, пока она вся жиром его пропитается. Ну, вот закусим, такая закусочка – едрёна муха, скажу я вам… Ну, вы чего дремлете, ребята здоровые, вам еще по стакану под ветчину, а потом и под утки начнем. Выпили еще по стакану.
– Меня самого из шестого класса выгнали. Эх, было время! Вот было время! «Gaudeamus» знаете?
– Ну, как же! И запели:
Gaudeamus igitur juvenes dum sumus.
[Начальные строки студенческой песни «Гаудеамус»: «Будем радоваться, пока мы молоды» (лат.)]
А Курымушка так и стоял, все стоял за деревом, ожидая на себя нападения; первым выстрелом он думал убить станового, вторым полицейского, затем броситься вперед, схватить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на этих лошадях продолжать путешествие.
Так он думал вначале, а кумовство у костра все разгоралось, товарищи его покидали; они, пожалуй, пойдут за Кумом. Знал ли Кум его мысли? Верно, знал: он лежал на полушубке брюхом вниз, пел «Gaudeamus», а сам все смотрел на воду, будто чего-то ждал, потом вдруг крикнул Курымушке:
– Не зевай, не зевай!
А у воды совсем низко, будто катились, летели два чирка и прямо на Курымушку.
– Не зевай! – крикнул Кум. – Так-так-так-вот-вот-вот… стреляй!..
Курымушка выстрелил раз – промахнулся, два – чирок свалился в воду у самого берега. Сразу бросились и Курымушка, и Кум к утке, у Курымушки руки не хватало достать, а Кум дотянулся и, подавая ему утку, сказал:
– Молодец, азият!
Обнял его вокруг шеи правой рукой и, повторяя: «Молодец, азият», усадил его возле костра на полушубок.
– Ну, ребята, – сказал он, – кажется, ужин поспел, давайте-ка под утку, я сам гимназист, да из шестого класса.
Gaudeamus igitur juvenes dum sumus.
Все выпили, Курымушка тоже первый раз хватил, и прямо целый стакан.
– Молодец, азият! – похвалил становой.
Тогда мало-помалу Курымушке стала показываться та желанная теплая подушка в белой наволочке; еще он сопротивлялся, отталкивал ее, а она все наседала, наседала.
– Нет, нет! – крикнул он.
– Добирай, добирай! – кричал Рюрик. – Мы без тебя сколько выпили, добирай!
Курымушка выпил еще, и подушка, огромная, белая, теплая, сама легла ему под голову. Хор пел:
Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой,
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой…
Только под вечер Курымушка проснулся и услышал голос Рюрика:
– Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?
– Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем – и спать, а утром вы по домам, и будто сами пришли и раскаялись.
Лобан
Вот если бы знать в свои ранние годы, когда встречаешься с первой волною своей судьбы, что та же волна еще придет, тогда совсем бы иначе с ней расставался, а в том и беда: кажется, навеки ушла и никогда не воротится. Старшие с улыбкой смотрят на детские приключения; им хорошо, они свое пережили, а для самих детей все является, как неповторимое. Долго не мог взять себе в ум Курымушка, почему так издевались над ним в гимназии, как за зверем ходили и твердили: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Разве нет забытых стран на свете, разве плана его не одобрил сам учитель географии, и если была его одна ошибка в выборе товарищей, то ведь от этого не исчезают забытые страны, – их можно открывать иначе. В чем же тут дело? «Уж не дурак ли я?» – подумал он. И стал эту мысль носить в себе как болезнь. Пробовал победить сам себя усердием, стал зубрить уроки, ничего не выходило: Коровья Смерть как заладил единицу, так она и шла безотрывно. Смутная была догадка в душе, что если бы что-то не мешало, то мог бы учиться, как все и даже много лучше. Однажды Коровья Смерть задал такую задачу, что все так и сели над ней, все первые математики были спрошены, никто не мог решить. Вдруг Курымушке показалось, будто он спит-не спит и ему просто видится решение отдельно от себя; попробовал это видимое записать, и как раз выходил ответ. Всю руку поднять он не посмел, а только немножко ладонь выставил, и то она дрожала. Соседи крикнули:
– Алпатов вызывается!
– Ну, выходи, – сказал Коровья Смерть, – опять какую-нибудь глупость сморозишь. Это тебе не Азия!
Курымушка вышел и стал писать мелом на доске по своему видению.
– Как же это так ты? – изумился учитель. – Откуда ты взял это решение?
– Из головы, – ответил Курымушка очень конфузливо, – мне так показалось. Это неверно?
– Вполне верно. Только ведь как же ты мог?
И, к великому изумлению всего класса, сразу после единицы поставил три, и не простое, а, как воскресение из коровьей смерти, на весь год. После этого случая он стал усердней учить уроки, но так всего было много, что от силы было все выучивать только на три. Как учатся иные всегда ровно на четыре и даже на пять, понять он не мог. Тупо день проходил за днем и год за годом: глубоко где-то в душе как засыпанная пеплом страна лежала, дремала, и вот, – когда у Алпатова стали виться кольцами русые волосы и чуть-чуть наметились усики даже, когда почти все ученики стали мечтать о танцах и женской гимназии и писать влюбленные стихи Вере Соколовой, в начале четвертого класса, – будто из-под пепла вулкан вырвался, и опять пошло все кувырком.
Мысль, что он дурак, все-таки не оставляла Курымушку и втайне его очень даже точила: он не верил себе, что может окончить гимназию, так это было трудно и скучно, предчувствие постоянно говорило, что все оборвется каким-то ужасным образом. На первых учеников он не смотрел с завистью, они просто учились, и больше ничего, – но настоящие умные были в старших классах, и многим он очень завидовал. Эти умные держались как-то совершенно уверенно, им было наплевать на гимназию, и в то же время они знали, что кончат ее и непременно будут студентами; это были настоящие умные – таких в его классе не было ни одного. Против его четвертого класса был физический кабинет, в нем были удивительные машины, и там восьмиклассники занимались, настоящие умные ученики, и среди них Несговоров был первый, к нему все относились особенно. Раз Курымушка засмотрелся в физический кабинет, и Несговоров, заметив особенное выражение его лица, спросил: