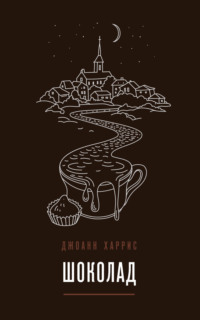
Шоколад
– Вот как? – Сдержанно. – И что же она говорит?
– Что я дурно влияю. – Она глянула на меня исподлобья. – Потому что мы не ходим в церковь. Потому что ты открыла магазин в воскресенье.
Ты открыла.
Я смотрю на дочь. Мне хочется ее обнять, но меня настораживает этот неприступный враждебный вид.
– А сам Жанно что думает? – мягко спрашиваю я.
– А что ему делать? Она всегда рядом. Наблюдает. – Голос громче, пронзительнее; похоже, она вот-вот расплачется. – Почему с нами каждый раз так? – вопрошает она. – Почему я никогда…
Она заставляет себя умолкнуть, ее худенькая грудь сотрясается.
– У тебя есть другие друзья.
Это правда: вчера вечером я видела с ней человек пять детворы; площадь звенела от их визга и смеха.
– Это друзья Жанно.
Логично. Луи Клермон. Лиз Пуату. Они – его друзья. Без Жанно компания скоро распадется. Мне вдруг невыносимо больно за дочь: выдумывает невидимых друзей, населяет пространство вокруг себя. Какой эгоизм – вообразить, будто одна мать способна это пространство заполнить. Эгоизм и слепота.
– Мы можем посещать церковь, если ты хочешь, – ласково говорю я. – Но ты же сама понимаешь: это ничего не изменит.
– Почему? – С упреком. – Они ведь не верят. Им плевать на Бога. Они просто ходят в церковь.
Я улыбнулась, не без горечи. Ей всего шесть, но порой она поражает меня своей проницательностью.
– Может, и так, – отвечаю я, – но ты что, хочешь быть как они?
Она пожимает плечами – цинично и равнодушно. Переминается с ноги на ногу, словно боится, что я начну читать нотацию. Я ищу подходящие слова, чтобы объяснить ей, а в мыслях – только мать с обезумевшим лицом: укачивает меня, нашептывая почти с яростью: «Что я буду делать без тебя? Что буду делать?»
Вообще-то я все уже давно объяснила – лицемерие церкви, охота на ведьм, преследование бродяг и людей иной веры. Она понимает. Только усвоенные понятия плохо переносятся в повседневность, не примиряют с одиночеством, с утратой друга.
– Это несправедливо.
Тон по-прежнему бунтарский; враждебность пригасла, но не потухла совсем.
Равно как и разграбление Святой земли, сожжение Жанны д'Арк, испанская инквизиция. Но я не напоминаю об этом. Страдальческое лицо напряжено. Стоит мне дать слабину, и она отвернется от меня.
– Найдешь других друзей.
Неубедительный, неутешительный ответ. Анук глядит с презрением.
– А мне нужен был этот.
Пугающе взрослый, пугающе усталый голос. Она отводит взгляд. Веки набухли слезами, но она не кидается ко мне за утешением. Неожиданно я с ужасающей ясностью вижу ее, ребенка, подростка, взрослую, совершенно незнакомую мне, какой она однажды станет, и едва не кричу в страхе и растерянности. Будто мы с ней поменялись местами: она – взрослая, я – ребенок…
«Пожалуйста, не уходи! Что я буду делать без тебя?»
Но я отпускаю ее без единого слова, как ни велико во мне желание обнять ее: слишком остро ощущаю стену отчуждения. Я знаю, люди рождаются дикарями. Я могу надеяться разве что на капельку ласки, на видимость послушания. В глубине пребывает дикость – необузданная, неприрученная, непредсказуемая.
Весь вечер она хранила молчание. Когда я укладывала ее спать, она отказалась от сказки, но заснула лишь спустя несколько часов после того, как я погасила свет у себя. Лежа в темноте, я слышала, как она меряет шагами комнату, время от времени разражаясь яростными отрывистыми тирадами, обращенными то ли к самой себе, то ли к Пантуфлю, слишком тихими – слов не разобрать. Позже, уверившись, что она спит, я на цыпочках пробралась в ее комнату, чтобы выключить свет. Свернувшись клубочком, она лежала на краю кровати, выкинув в сторону руку и так трогательно и неловко вывернув голову, что у меня от жалости защемило сердце. В ладони она сжимала пластилиновую фигурку. Расправляя простыни, я эту фигурку забрала, намереваясь положить в коробку для игрушек. Пластилин еще хранил тепло детской ручки и пах начальной школой, нашептанными секретами, типографской краской и полузабытыми друзьями.
Липкая шестидюймовая фигурка, старательно вылепленная детскими пальчиками. Глаза и рот процарапаны булавкой, вокруг пояса – красная нитка и что-то – веточки либо сухая трава – воткнуто в голову, обозначая косматые каштановые волосы… На туловище пластилинового мальчика выцарапаны буквы: прямо над сердцем – аккуратная заглавная «Ж», чуть ниже, почти залезшая на нее, – «А».
Я осторожно положила фигурку на подушку рядом с головой Анук и вышла, потушив свет. Незадолго до рассвета Анук забралась ко мне в постель, как она это часто делала, когда была еще совсем малышкой, и я из мягких глубин дремоты услышала ее шепот:
– Не сердись, maman. Я тебя никогда не брошу.
От нее пахло солью и детским мылом. В темноте она крепко сжимала меня в теплых объятиях. Счастливая, я укачивала ее, укачивала себя, обнимала нас обеих, и облегчение мое было пронзительным, как боль.
– Я люблю тебя, maman. И всегда буду любить тебя навечно. Не плачь.
Я не плакала. Я никогда не плачу.
Я плохо спала посреди калейдоскопа снов и пробудилась на рассвете – на моем лице рука Анук, в душе – отвратительное паническое желание схватить дочь в охапку и вновь пуститься в бега. Как нам жить здесь? Какая глупость – решить, будто он не настигнет нас даже в этом городе? У Черного Человека множество лиц, и все неумолимы, суровы и почему-то завистливы. «Беги, Вианн. Беги, Анук. Забудьте свою маленькую сладостную мечту и бегите».
Но нет, на этот раз мы не убежим. Мы и так убежали слишком далеко. Анук и я. Мама и я. Слишком далеко от самих себя.
За эту мечту я намерена цепляться.
9
19 февраля, среда
Сегодня у нас выходной. Школа закрыта, и, пока Анук играет возле Марода, я получу заказанный товар и приготовлю партию лакомств на неделю.
Стряпаю я с удовольствием. Кулинарное искусство сродни волшебству: я словно ворожу, выбирая ингредиенты, смешивая их, измельчая, заваривая, настаивая, приправляя специями по рецептам из древних кулинарных книг. Традиционные предметы утвари – ступа и пест, которые мать использовала, готовя благовония, – теперь служат обыденности, а мамины пряности и амбра добавляют тонкости чудесам простым и чувственным. Мимолетность – вот что отчасти восхищает меня. Столько труда, любви, искусного мастерства вкладывается в удовольствие, которое длится всего-то мгновение и которое лишь немногие способны по-настоящему оценить.
Моя мать всегда снисходительно презирала мое увлечение. Она не умела наслаждаться едой, воспринимала ее как утомительную необходимость, налог на нашу свободу. Я крала меню из ресторанов и с тоской смотрела на витрины кондитерских, а настоящий шоколад впервые попробовала, когда мне было лет десять, а может, и больше. Но интерес к кулинарии не угасал. Рецепты я помнила наизусть, хранила в голове, как дорожные маршруты. Всевозможные рецепты – выдранные из брошенных журналов на переполненных вокзалах, выведанные у случайных попутчиков, дикие произведения моего собственного сочинения. Ворожба и гадания вычерчивали наш безумный маршрут по Европе. А карточки с рецептами размечали вехами унылые границы, бросали якоря. Париж пах свежим хлебом и рогаликами, Марсель – буйабессом и жареным чесноком, Берлин – ледяной кашей с квашеной капустой и картофельным салатом, Рим – мороженым, которое я съела, не заплатив, в ресторанчике у реки.
У матери не было времени на вехи. Все географические карты в голове, все города одинаковы. Уже тогда мы по-разному смотрели на жизнь. Нет, она научила меня всему, что умела. Как проникать в суть вещей, разбираться в людях, читать их мысли и сокровенные желания. Водитель согласился подвезти нас и дал крюк в десять километров, чтобы доставить нас в Лион; торговцы отказывались брать с нас плату; полицейский не обращал на нас внимания. Конечно, нам везло не всегда. Порой удача отворачивалась – непонятно почему. Есть люди, которых не прочтешь, до которых не достучишься. Например, Франсис Рейно. И даже когда у нас получалось, это вторжение смущало меня. Слишком уж легко. А вот шоколад – другое дело. Да, чтобы его приготовить, нужно мастерство. Легкая рука, сноровка, терпение, каким никогда не обладала мать. Но формула неизменна. Это безопасно. Безвредно. И не нужно заглядывать в чужие сердца, брать, что хочу; я просто исполняю желания, делаю то, о чем просят.
Ги, мой кондитер, знает меня с давних времен. Мы работали вместе, когда родилась Анук; Ги помог мне организовать мое первое заведение – маленькую кондитерскую на окраине Ниццы. Теперь он живет в Марселе – импортирует натуральное тертое какао из Южной Америки и на своей фабрике перерабатывает в различные сорта шоколада.
Я использую только лучшее. Брикеты шоколадной глазури чуть больше обычного кирпича, каждую неделю по ящику трех видов – черной, молочной и белой. Шоколад доводится до кристаллического состояния – поверхность хрупкая и блестит. Некоторые кондитеры покупают не брикеты, а шоколадную массу, но я люблю готовить смесь своими руками. Возня с необработанными тусклыми блоками шоколадной глазури беспредельно завораживает: дробишь их вручную – я никогда не пользуюсь электрическими миксерами, – ссыпаешь в большие керамические чаны, плавишь, помешиваешь, то и дело старательно измеряешь температуру специальным термометром: пока смесь не получит достаточно тепла, чтобы случилось превращение.
Алхимия своего рода – преобразование шоколадного сырья в лакомое «золото дураков»; любительская алхимия, которую, наверное, даже мама бы оценила. Работая, я дышу полной грудью и ни о чем не думаю. Окна распахнуты настежь, гуляют сквозняки – было бы холодно, если б не жар печей и медных чанов, если б не горячие пары тающей шоколадной глазури. В нос бьет одуряющая, пьянящая смесь запахов шоколада, ванили, раскаленных котлов и корицы – терпкий грубоватый дух Америки, острый смолистый аромат тропических лесов. Вот так я теперь путешествую – как ацтеки в своих священных ритуалах. Мексика, Венесуэла, Колумбия. Двор Монтесумы. Кортес и Колумб. Пища богов пузырится и пенится в ритуальных чашах. Горький эликсир жизни.
Возможно, это и чувствует Рейно в моей лавке – дух далеких времен, когда мир был огромен и дик. Какао-бобам поклонялись еще до пришествия Христа – до того, как родился в Вифлееме Адонис и принесен был в жертву на Пасху Осирис. Какао-бобам приписывались магические свойства. Напиток из них потягивали на ступеньках жертвенных храмов; какао-бобы даровали исступленное блаженство, повергали в неистовый экстаз. Вот чего он боится? Растления через наслаждение, незаметного пресуществления плоти в сосуд разгула. Оргии ацтекского жречества не для него. И все же в парах тающего шоколада что-то проступает – видение, сказала бы моя мать, – дымчатый палец постижения, указующий… указующий…
Есть! На секунду я почти ухватила его. Блестящая поверхность пошла дымчатой рябью. И снова – неясно, тонко и бледно, прячется, является… На мгновение я почти увидела ответ, тайну, которую он скрывает – даже от себя – тщательно, с пугающей расчетливостью; ключ, который даст ход всем нам, запустит в движение механизм.
Гадать на шоколаде трудно. Видения расплываются, клубятся в парах, что туманят мозг. И я – не моя мать, до самой смерти сохранявшая столь могучий дар прорицания, что мы в одичалом смятении бежали впереди него. И все же, прежде чем видение рассеялось, мне кажется, я успела кое-что рассмотреть – комнату, кровать, на ней старика с воспаленными запавшими глазами на белом лице… И огонь. Огонь.
Вот что я должна была увидеть?
Вот какова тайна Черного Человека?
Мне нужно знать его секрет, если мы хотим здесь остаться. А я намерена остаться. Чего бы это ни стоило.
10
19 февраля, среда
Неделя, mon père. Всего-навсего. Прошла одна неделя. А кажется, гораздо больше. Сам не понимаю, почему она так тревожит мой покой, – мне ведь абсолютно ясно, что это за женщина. Я заходил к ней на днях, пытался убедить, что не стоит открывать магазин в воскресное утро. Бывшая пекарня преобразилась, меня смущали ароматы имбиря и специй. Я старался не смотреть на полки со сладостями – коробочки, ленточки, пастельные бантики, золотисто-серебристые горки засахаренного миндаля, сахарные фиалки, шоколадные лепестки роз. Намек на будуар более чем ясен – так интимно, так пахнет розами и ванилью. Похоже на комнату моей матери: сплошь креп и кисея, мерцание хрусталя в приглушенном свете, ряды флакончиков и склянок на туалетном столике – сонм джиннов, ожидающих избавления из плена. Есть что-то нездоровое в столь обильном средоточии изысканности. Отчасти исполненное обещание запретного блаженства. Я старался не смотреть, не нюхать.
Она вежливо поздоровалась. Теперь я увидел яснее: длинные черные волосы собраны в узел, глаза темные, будто без зрачков. Идеально прямые брови придают ее облику суровость, смягченную ироничным изгибом губ. Ладони квадратные, ногти коротко острижены – руки профессионала. Никакой косметики, и все равно в лице сквозит что-то непристойное. Возможно, открытый оценивающий взгляд, неизменно ироничные губы. К тому же она высока, слишком высока для женщины, она ростом с меня. Смотрит мне прямо в глаза – плечи расправлены, подбородок дерзко вскинут. На ней длинная расклешенная юбка, огненная, и облегающий черный свитер. Опасная расцветка – точно змея, ядовитое насекомое, предостережение врагам.
А она – мой враг. Я это сразу почувствовал. Ее враждебность, ее подозрительность; меня не обманывает ее тихий приятный голос. Нарочно завлекает меня в лавку, хочет посмеяться надо мной. Ей будто известно такое, что даже я… Впрочем, ерунда. Что она может знать? Что может сделать? Естественный порядок нарушен, и я негодую, как добросовестный садовник вознегодовал бы при виде одуванчиков в саду. Семена разброда всюду дают всходы, mon père. И разброд ширится. Ширится.
Я понимаю. Я теряю перспективу. Но мы, ты и я, все равно должны бдить. Помнишь Марод и цыган, которых мы изгнали с берегов Танна? Помнишь, сколько времени и сил ушло на это, сколько бесплодных месяцев потрачено на жалобы и ходатайства, пока мы не взяли дело в свои руки? Помнишь мои проповеди? Одна за другой перед ними захлопывались двери. Некоторые лавочники сразу встали на нашу сторону. Не забыли последнего нашествия цыган, принесших в город болезни, воровство, проституцию. А вот на Нарсисса пришлось надавить: он, по своему обыкновению, готов был предложить бродягам работу на своих полях в летнюю страду. Но мы в конце концов выселили весь табор – угрюмых мужчин, их неряшливых потаскушек с наглыми глазами, их босоногих детей-сквернословов, их тощих собак. После ухода цыган люди бесплатно убрали после них мусор и грязь. Одно семечко одуванчика, mon père, – и они вернутся. Ты это понимаешь не хуже меня. И если она – это семечко…
Вчера я разговаривал с Жолин Дру. Анук Роше поступила в начальную школу. Развязная девчонка с такими же черными волосами, как у ее матери, и радужной нахальной улыбкой. Судя по всему, Жолин заметила, что ее сын Жан в числе других детей играет с этой девочкой в какую-то непотребную игру на школьном дворе. Они вытряхивали в грязь из мешочка бусины и кости. Видимо, гадали или еще какой ерундой занимались. Дурное влияние… Говорю же, я знаю эту породу. Жолин запретила Жану играть с Анук, но парень упрям, тут же надулся. Дети в этом возрасте понимают только язык строгой дисциплины. Я вызвался серьезно поговорить с мальчиком, но мать не согласилась.
Вот что это за люди, mon père. Слабые. Слабые. Интересно, сколько из них уже нарушили Великий пост? Сколько вообще намеревались его соблюдать? Меня же пост очищает от скверны. Витрина лавки мясника приводит меня в ужас; обоняние так обострилось, что даже кружится голова. Я вдруг совершенно перестал выносить аромат свежей выпечки из пекарни Пуату по утрам; харчевня на площади Изящных Искусств смердит жареным жиром, будто адское пекло. Сам я вот уже больше недели не прикасаюсь ни к мясу, ни к рыбе, ни к яйцам. Живу на хлебе, супах, салатах да в воскресенье позволяю себе бокал вина. И я очистился, père, очистился… Жаль только, что не могу сделать больше. Это – не мука. Это – не наказание. Порой я думаю: вот если бы стать для них примером, если бы это я страдал, истекая кровью на кресте…
Эта ведьма Вуазен насмехается надо мной, шагая мимо с корзиной продуктов. Она единственная в семье благочестивых прихожан презирает церковь, ухмыляется мне, ковыляя мимо в соломенной шляпке с красным шарфом, идет, стучит палкой по плитам и склабится… Я терплю ее только из уважения к ее возрасту, mon père, и из жалости к ее родным. Упрямо отказывается от лечения, от утешения и поддержки, думает, что будет жить вечно. Но в один прекрасный день она сломается. Когда-нибудь они все ломаются. И я безропотно отпущу ей грехи. Буду скорбеть о ней, несмотря на все ее заблуждения, гордыню, заносчивость. В итоге она падет к моим ногам, mon père. В итоге все они падут, правда же?
11
20 февраля, четверг
Я ждала ее. Клетчатый плащ, волосы зализаны назад, руки проворные и нервные, как у опытного стрелка. Жозефина Мускат, женщина с карнавала. Она дождалась, когда мои завсегдатаи – Гийом, Жорж и Нарсисс – покинули шоколадную, и вошла, держа руки глубоко в карманах.
– Горячий шоколад, пожалуйста, – заказала она, уставившись на пустые бокалы, которые я не успела убрать, и неловко села на табурет за прилавком.
– Сию минуту.
Я не стала уточнять, как приготовить, – подала с шоколадной стружкой и взбитыми сливками, положив на край блюдца две кофейные помадки. С минуту она, прищурившись, смотрела на бокал, потом робко прикоснулась к нему.
– Я тут на днях, – заговорила она неестественно беспечным тоном, – была у вас и забыла заплатить. – Пальцы у нее длинные и, как ни странно, изящные, несмотря на мозолистые подушечки. Лицо слегка расслабилось, затравленная тревога отпустила его, и теперь оно почти красиво. Волосы мягкого каштанового оттенка, золотистые глаза. – Прошу прощения.
Она почти с вызовом бросила на прилавок монету в десять франков.
– Ничего страшного. – Голос у меня беззаботный, безразличный. – С кем не бывает.
Жозефина подозрительно взглянула на меня и, убедившись, что я не рассержена, чуть успокоилась.
– Вкусно, – похвалила она, глотнув из бокала. – Очень вкусно.
– Я сама готовлю, – объяснила я. – Из тертого какао, еще без какао-масла – его добавляют, чтобы масса затвердела. Ацтеки столетия назад именно так шоколад и пили.
Жозефина вновь глянула подозрительно.
– Спасибо за подарок, – наконец произнесла она. – Миндаль в шоколаде. Мои любимые конфеты. – И вдруг заговорила быстро, отчаянно, захлебываясь словами: – Я не нарочно. Просто они обсуждали меня, я знаю. Но я не воровка. Это все из-за них… – теперь тон презрительный, уголки губ опущены в гневе и самобичевании, – из-за стервы Клермон и ее подружек. Лгуньи. – Она опять посмотрела на меня, дерзко, почти вызывающе. – Говорят, ты не ходишь в церковь.
Голос звенящий, слишком громкий для крошечной шоколадной, оглушает нас обеих.
Я улыбнулась.
– Совершенно верно. Не хожу.
– Значит, долго здесь не протянешь. – Голос сорвался, по-прежнему ломкий. – Они выживут тебя отсюда, прогонят, как прогоняют всех, кто им не нравится. Вот увидишь. Все это… – Она нервно обвела рукой полки, коробочки, витрину. – Ничто тебя не спасет. Я слышала их болтовню. Слышала, что они говорили.
– Я тоже. – Из серебряного чайника я налила себе маленькую чашку шоколада – черного, как эспрессо, – и помешала ложечкой. – Но я не обязана слушать, – спокойно сказала я и, отпив из чашки, добавила: – И ты тоже.
Жозефина рассмеялась.
Мы обе замолчали. Пять секунд. Десять.
– Говорят, ты ведьма. – Опять это слово. Она с вызовом посмотрела мне в лицо. – Это так?
Я пожала плечами, глотнула шоколада.
– Кто говорит-то?
– Жолин Дру. Каролина Клермон. Приспешницы кюре Рейно. Я слышала, как они болтали у церкви. И дочь твоя что-то рассказывала детям. Про духов. – В голосе любопытство и скрытая, невольная враждебность – ее природы я не понимала. – Надо же, духи! – хохотнула Жозефина.
Я провела пальцем по золотому ободку чашки.
– Я думала, тебе плевать на то, что болтают все эти люди.
– Мне просто любопытно. – Опять с вызовом, словно боится пробудить к себе симпатию. – И ты на днях говорила с Армандой. А с Армандой никто не разговаривает. Кроме меня.
Арманда Вуазен. Старушка из Марода.
– Она мне нравится, – просто сказала я. – Почему бы мне с ней не поговорить?
Жозефина стиснула кулаки на прилавке. Волнуется, голос трещит, как стекло на морозе.
– Потому что она сумасшедшая, вот почему! – Она неопределенно покрутила пальцем у виска. – Сумасшедшая, сумасшедшая, сумасшедшая. – Она понизила голос. – Я вот что тебе скажу. В Ланскне существует граница, – мозолистым пальцем она провела на прилавке черту, – и если ты ее переступаешь, если не исповедуешься, не уважаешь мужа, не готовишь три раза в день, не ждешь возвращения мужа, сидя у камина с пристойными мыслями в голове, если у тебя нет… детей… и ты не ходишь с цветами на похороны друзей, и не пылесосишь свою гостиную, и… не… вскапываешь… цветочные грядки! – Жозефина раскраснелась от напряжения, от клокотавшего внутри безудержного гнева. – Значит, ты – чокнутая! – выпалила она. – Чокнутая, ненормальная. И люди… шепчутся… за… твоей спиной и… и… и…
Она умолкла, и боль уже не искажала ее черты. Я заметила, что взгляд ее устремлен мимо меня за окно, но отражение в стекле заслонило то, на что она смотрела. Будто занавес опустился на ее лицо – плотный, непроницаемый, безнадежный.
– Извини. Меня чуть-чуть занесло. – Она допила шоколад. – Мне нельзя с тобой общаться. Да и тебе со мной. И так уже не жди ничего хорошего.
– Это Арманда так думает? – мягко полюбопытствовала я.
– Мне пора. – Словно казня себя, она опять вдавила в грудь стиснутые кулаки. – Мне пора.
Вновь смятение в глазах, губы искривились панически, и от этого лицо – почти отупевшее… Однако разгневанная, возмущенная женщина, что говорила со мной минуту назад, была далеко не глупа. Что – или кого – она увидела, отчего так резко изменилась в лице? Едва она ступила за порог и, горбясь под порывами воображаемого ураганного ветра, зашагала прочь, я приблизилась к окну, глядя ей вслед. К ней никто не подошел. Вроде бы никто на нее не смотрел. И тут я заметила Рейно. Он стоял у входа в церковь, в арочном проеме. Рядом с ним – незнакомый лысеющий мужчина. Взгляды обоих прикованы к витрине «Небесного миндаля».
Рейно? Может, он – источник ее страха? Меня кольнуло раздражение при мысли, что, возможно, священник настраивает Жозефину против меня. Помнится, она говорила о нем скорее с пренебрежением, чем со страхом. Собеседник Рейно – коренастый мужчина. Завернутые рукава клетчатой рубашки обнажают лоснящиеся красные руки, интеллигентские очочки несуразны на крупном мясистом лице. Во всем облике невнятная враждебность, и я наконец узнаю его. Я уже встречала его прежде – с белой бородой, в красном халате. Он бросал сладости в толпу. На карнавале. Санта-Клаус. Швырял конфеты с такой злостью, будто надеялся выбить кому-нибудь глаз. В этот момент у витрины остановились дети. Мужчин у церкви я теперь не видела, но, думаю, разгадала причину поспешного бегства Жозефины.
– Люси, видишь того человека на площади? В красной рубашке? Кто это?
Девочка скорчила рожицу. Ее любимое лакомство – белые шоколадные мышки, пять штук за десять франков. Я добавила ей в бумажный кулек еще две.
– Ты ведь его знаешь, верно?
Люси кивнула.
– Мсье Мускат. Хозяин кафе.
Я знаю – невзрачная забегаловка в конце улицы Вольных Граждан. С полдесятка металлических столиков на тротуаре, выцветший навес с эмблемой «Оранжины». Старая вывеска – «Кафе "Республика"». Сжимая кулек со сладостями, девочка отходит от прилавка, собираясь выскочить на улицу, но потом, передумав, вновь поворачивается.
– А вот какие его любимые лакомства, вы никогда не догадаетесь, – сказала она. – Потому что он ничего не любит.
– В это трудно поверить, – улыбнулась я. – Каждый человек что-нибудь да любит.
Люси поразмыслила с минуту.
– Ну, может, только то, что забирает у других, – звонко объявила она и ушла, махнув мне на прощание через витрину. – Передайте Анук, что после школы мы идем в Марод!
– Обязательно.
Марод. Интересно, чем он их прельщает. Речка с вонючими коричневыми берегами. Узкие улочки, по которым гуляет мусор. Оазис для детей. Укрытия, плоские камешки, которые хорошо скачут по стоячей воде. Секреты шепотом, мечи из палок, щиты из листьев ревеня. Военные действия в зарослях ежевики, тоннели, первопроходцы, бродячие собаки, слухи, похищенные сокровища… Вчера Анук вернулась из школы, вышагивая упруго, и показала мне свой новый рисунок.

