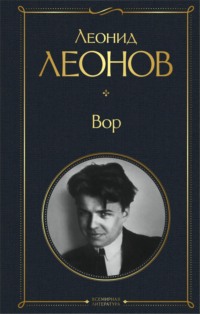
Вор
Ввечеру выйдя от дядьки, он двинулся наугад в окраинные переулки, где потемней: застыдился своей оранжевой деревенской овчины. Привлеченный полосами света, пересекавшими побелевшую от снега булыжную мостовую, он повернул раза два за угол и вот уже знал, куда идет. Под зеленой вывеской раскачивался слепительный в сумерках фонарь. Ветер прямо с ног валил, а запотелые изнутри, почти вровень с тротуаром, яркие окна пивной сулили тепло и уют. Заварихин посдвинул шапку и обдернул полы полушубка, отчего вдруг постатнел и вырос. Оттепельная капель с крыши, мелкой дробью в плечо, поторопила его спуститься по скользким ступеням в самое пекло подвала.
Просторную зальцу до отказа переполняли звон посуды, женские хохотки, беспорядочное движение, запахи сохнущей одежды, кухни и табака. На эстрадке полосатый, беспардонный шут отсобачивал куплеты про любовь, пристукивая старорежимными лаковыми штиблетами. Только в заднем, тесноватом отделении, где свету было пожиже, а гость темней с лица и опаснее, отыскался свободный столик. Заварихин расстегнул полушубок у ворота и скричал полового… Хмельные компании перекликались из угла в угол, дразнясь и ссорясь, но ленивая брань не грозила пока ножом. Слоистый дым окутывал перья фальшивой пальмы и несколько дурных картин, развешенных с художественным небрежением. Казалось, что этот ночной пир происходит на дне глубокого безвыходного колодца; свыкнувшись, люди и не заглядывали вверх. Все это была залетная гулящая публика, как пояснил Николке с усталым усмехом половой Алексей, тоже летучий парень с бельмом, весь пятнистый и захватанный, как его салфетка.
– Сам-то из Саратова, значит? – помаленьку осваивался Николка, приглядываясь к обстановке. – Саратовцы-то, в притче сказывано, собор на гармонь променяли… ты в ихнем деле не участник? Ладно, не серчай: шутка. Игроки сплошь да орляночники твои земляки, но земледельцы, бают, круглые, заботистые!
– А мы безземельны все, и дядья-то в половых бегали… весь род бегал, бегуны! Заказывайте, гражданин, некогда… – выпалил тот со злостью и попытался убежать, но Заварихин придержал его за рукав.
Вдруг что-то недоброе померещилось ему в этом месте, куда завела его незадача: и пропитанный тревогой воздух, и сидевшие кучками, сблизясь головами, соседи вокруг. В иное время ничто, даже недопитое и оплаченное вино, не удержало бы Заварихина тут, но сейчас не хотелось менять, пусть кабацкий, уют на слякотную улицу, жесткую койку в дядиной клетушке, на досадные раздумья о первом в жизни крупном поражении.
– Слышь-ка, приятель, а что за народ у тебя здесь… не зарежут? – притянув к себе Алексея, уже по-свойски осведомился Николка.
– Кому ж у нас резать? – деревянно посмеялся тот. – Резать у нас вроде некому. Это вы глубоко неправильно заметили… А просто субботний день, кажный норовит стряхнуться, потому как люди затруднительной жизни. – И парень выразил сочувствие кратким вращением глаз. – А тут у нас и кубарэ происходит, опять же кокетки, извиняюсь, заходят с улицы: публика, напротив, самая чистая. Даже в уголку, вишь, который в четвероугольном пальто, сочинитель сидит, на манер Максима Горького. Ишь как в бумагу свою карандашом скребет, про жизнь записывает!
– Где, где? – всполошился Николка в простецком предположении, что сочинители бывают только мертвые, но парень вырвался и убежал.
И опять: именно то обстоятельство, что ничего выдающегося не виднелось в указанном направлении, кроме клетчатого демисезона, а на столике перед ним красовалась всего лишь нищая кружка пива да нарезанная ломтиками вобла общедоступного сорта карие глазки, показалось Николке вдвойне подозрительным притворством.
Знакомы были Николке трактиры на больших дорогах, где степенный проезжий народ услаждается чаем с синим от закалки сахаром да кислыми суточными щами, а если выпьют, то не от распутства их шумливый хмель. Здесь – глаза людей смотрели с прищуром, как из-под бетонного козырька, под которым укрывались от суда и правды завтрашнего дня. Он не сулил им добра, этот день, хоть и притягивал к себе, как тянет магнитная гора ничтожный железный опилок. Нечистой удалью и разгулом старались они продлить летящее мгновенье, потому что остановиться в безостановочном падении можно было, лишь разбившись вдрызг. Невольно настораживали поэтому их опустошением и скукой отмеченные лица. Николка все еще недоумевал, и, когда липкая, без пола и возраста, пугливая тень предложила ему понюхать, он отпихнул ее враждебным взором, с брезгливостью нетронутого здоровья. И та поплыла меж столиками дальше, неся как вывеску своего товара недуг в обесцвеченных глазах… Тут, ощутив потребность выйти во двор, Николка поднялся из-за стола и с удивлением отметил, что успел захмелеть от выпитого натощак.
Когда он вернулся, людей прибыло, а толчея и шум чуть не вдвое усилились. Терпкий чад кухни, казалось, вот-вот скристаллизуется и хлопьями станет падать на засыпанный опилками пол. Поосвоившись, Заварихин перебрался за другой столик, в проходе, чтоб видеть происходившее на эстраде. Полосатого давно сменил чумазый фокусник, а на смену ему явилась пышная, в благушинском вкусе, красавица, со значительным вырезом на бархатном сиреневого колера платье. Низким, взводистым голосом она запела тягучую каторжную песню, то скрещивая руки на высокой груди, то в искусном отчаянии раскидывая их по сторонам, как бы даря себя двум сразу приземистым гармонистам, сидевшим по сторонам.
В совершенной тишине, медленно приспуская тяжелую шаль с белоснежного, как лакомство, плеча, мановеньями рук умеряя ярость гармонистов, она исполняла свою коронную —
…я в разгуле закоснела,лучезарная твоя!Судя по наступившему безмолвию, ее знали и ценили здесь, знаменитую исполнительницу роковых песен, как было сказано в самодельной афишке, Зину Балуеву. В переднем ряду какой-то атлетической внешности поклонник в бекешке, верно, с черного рынка негоциант, все накручивал помрачительной отработки ус, жестом требуя от артистки дополнительно огня и ласки, а один зашиканный пропойца, пьяней вина и стоя на стуле, дирижировал и плакал в три ручья по своей надежно загубленной жизни… Во хмелю Николка довольно быстро утрачивал всякий удерж, а тут под влиянием всеобщего воодушевления его в особенности потянуло выделиться из всего человечества и с этой целью совершить нечто в старинном стиле, примерно высадить оконную раму, и высадил бы, кабы не музыка, а пока – лишь глазами и соответственным движением обеих рук заказал Алексею тащить к нему на стол все имевшиеся в наличности дары природы. Тогда-то, в разгаре поднявшейся суеты, и спустился в подвал новый посетитель, к великой Николкиной досаде немедленно овладевший вниманием пивной… причем и у самого Николки осталось щемящее впечатленье, будто острым и праздничным сквознячком пахнуло на него от вошедшего.
Только из-за этого чрезвычайного и, видимо, неожиданного появленья никто не проводил певичку ни хлопком, ни увлажненным взором, – побледневшая и смяв конец песни, она торопливо сбежала по дощатым, прогибавшимся под нею приступкам. И вот уже завсегдатаи только и пялили глаза что на новопришедшего, дивясь чему-то, завидуя и ужасно волнуясь; никто, впрочем, не смел глядеть на него в упор. Коммерсант в бекешке косился по сторонам, ища благоприятного повода удалиться, а беспримерные усы его некрасиво обвисли. Кто-то шепнул Митька, но ничего не раскрылось для Заварихина в этом звуке… А тот и впрямь заслуживал особого вниманья, этот молодой и в чем-то даже подкупающе скромный, если бы не эта неуместная для ночного кабака енотовая шуба и такая же дорогая шляпа, – на них еще сверкали мельчайшие бриллиантики измороси. Крохотными вызывающими бачками на щеках, не менее, чем шубой, дразнил он осудительный заварихинский взгляд, а по высокому лбу, ранняя, похожая на шрам, бежала морщина. Верно, никто не видал его в жизни пьяным, гневным или плачущим. И прежде всего такая под этой сдержанностью, пожалуй, даже вялостью, чувствовалась способность к быстрому, злому и точному движенью, что сразу понял Николка: с таким либо вечная дружба, либо смертный бой.
Захваченный странным очарованьем скрытой силы, Николка и сам не возразил бы, чтоб посетитель разделил с ним стакан вина и одиночество, однако сразу нахмурился, когда тот без спросу присел к нему за стол и, посдвинув заварихинское, положил шляпу на краю. Тотчас, без единого приказанья, пятнистый Алексей поставил перед ним стакан чаю с лимоном, что указывало на известный здесь и тщательно соблюдаемый обычай этого, в бесценной шубе, удальца. И вдруг все в нем – показная небрежность к благам жизни, равнодушие к изобилию на заварихинском столе, а пуще всего этот бесстрастный взор куда-то поверх Николкина плеча, – все теперь стало оскорблять, сердить Николку и подымать на дыбки.
Готовый на любые и непоправимые осложнения, он повернулся боком к сопернику и для начала подтолкнул локотком ненавистную шляпу позади себя; та бесшумно – но он-то слышал! – скользнула на грязные опилки. Можно было утверждать, что, занимаясь каждый своим делом, никто из посетителей в ту минуту вовсе не глядел на Митьку, но едва вещь коснулась пола, вся пивная, сколько их там было, в одном полусознательном рывке метнулась поднять ее и с глухим вздохом отхлынула назад, доверив это ближайшему. Не считая Заварихина, кажется, единственный из всех Митька не шевельнулся на шум, – вряд ли до его сознания дошла причина переполоха.
Николка засмеялся, обнажая белые, без единого изъяна зубы.
– Аль деньжонки шальные завелись… шубу-то не бережешь, – дружелюбно качнулся он и потянул соседа за надорванный на рукаве лоскуток. – Выдал бы тогда взаймы надежному человеку!
– А, это еще с тюрьмы у меня… – просто откликнулся тот и опять уставился в желтый лимонный кружок.
Тогда, с верхом наполнив свою кружку пивом, Николка щедро протянул ее соседу, так что пена сползала прямо на лимонный чай: он угощал.
– Да бери же, бери, пока не раздумал… пей, браток! – с озорством подмигнул Николка и дерзко взглянул в поднятые Митькины глаза; в них светился знобящий осенний день, они не расспрашивали, но предупреждали, и Николка не испугался их. – Пей, а то сам выпью. И вы там – на всех хватит. Гуляй, заплочено… Пей!
Тот испытующе глядел в переносье Николке, где вкрутую сбегались брови. Казалось, он изучал природу этого деревенского молодца, который, внезапно разойдясь и выпрямясь в рост у стены, сам полунищий, приглашал Митьку, а заодно с ним и весь этот темный сброд к себе за стол, на даровое угощенье. Николкино лицо сперва порозовело, потом окрасилось багрецом и вроде подпухло слегка. Он приглашал их с презрительной, на пределе брани, лаской, и в щедрости этой выразилась вся его родовая неприязнь к городу, к западне с хитрой заманкой… Дед Николкин гонял почтовых лошадей на тракте, и средь односельчан досель ходили сказы об его ямщицких доблестях. Ненадолго вся былая ярость дедовских рук вселилась в узловатые, с волосками на суставах, Николкины руки: теперь они жаждали владеть, усмирять и взнуздывать, гнать сквозь ночь непокорную тройку хоть с самой Россией в пристяжке!.. Правда, Заварихины и во хмелю не теряли рассудка, так что прокучивал не последнее; значительная часть Николкиных капиталов была вшита в пояс да полстолько втайне от Пчхова запрятано в мастерской вместе с билетом на обратный путь.
Пивная прислушивалась к его дерзкому приглашенью, вопросительно косясь на Митьку, точно испрашивала согласья… И тут оказалось, столиками уже заставили проход, чтоб не сбежал хвастун, не заплатив за поношенье. Высокий парень, очевидный вор в обличии мастерового, пересел за соседний к Николке столик и кашлянул, подзывая других. Иные заблаговременно исчезали, предвидя зловещий конец кутежа, зато количество оставшихся будто учетверилось. И не успел пятнистый Алексей с добровольным подручным раскупорить первую дюжину, как уже сидели, званые, за составленными столиками, с грозной терпеливостью выжидая дальнейших хозяйских распоряжений.
И снова первая кружка была протянута Митьке, но тот отрицательно качнул головой, и Николка с усмешкой выплеснул налитое пиво под пальму. Кто-то возроптал, кто-то засмеялся; неистовая пляска Николкина лица совсем утихла.
– Эй вы, там, которые… угощайтесь! Алеша, покличь сочинителя, дружок, пускай погреется на заварихинские… – еле пошевелил он запекшимися губами, и вдруг плечи его распахнулись, а тело подалось вперед. – Пейте, вы… – повторил он, взмахивая потемневшими зрачками, – дьяволы московские!
Того лишь и ждали: губы гостей всласть приникли к толстому кружечному стеклу. И уже по второму разу опорожнялись кружки, и неизвестно, над которой дюжиной хлопотали умножившиеся добровольцы, когда женский голос крикнул сзади:
– Барин, толстый барин бежит… Погодите!
Кучка слева расступилась, давая проход грузному пожилому, донельзя обтрепанному человечку, деловито и мелко семенившему к Николке Заварихину. Весь колыхаясь от бессильной дряблости, не вследствие, однако, излишеств беспорядочной прошлой жизни, а скорее от нынешней неудачной старости, утомления и полного равнодушия к своей особе, он как бы падал вперед на бегу; на утратившем цвет рипсовом воротничке сотрясались щеки, а один штиблет ширкал громче другого. Почти вчера еще олицетворение сословного дворянского благоденствия, записал про него Фирсов, теперь он выглядел символом крайнего падения, разочарования и горечи.
Подскочив к Заварихину, он перевел дыханье, обмахнул лицо подобием салфеточки с бахромкой, пошебаршил ногами и все это заключил улыбкой, выражавшей – наравне с желанием не опоздать и угодить – опасение невзначай получить по шее.
– Вот и я, извиняюсь… сердчишко шалит! М-м, шалит… – объяснил он, прикусывая в одышке кончик языка, и махнул рукой, не в силах изобрести подходящую случаю шутку. – Не разоритесь ли, ваше степенство, на полтинничек для бедного человека?
– Это чего тебе? – насторожился Николка, незаметным движеньем тела проверяя сохранность зашитых в пазуху денег.
– Не скупись, купец! Деньги невелики, а он у нас, видишь ли, всякие такие истории житейские из царского режиму рассказывает… иной раз взопреешь, смеямшись! – шепнул на ухо Николке неизвестный малый с лицом, слегка продавленным вовнутрь. – Помещик он бывший, Манюкин… ну из бар, понятно? Да не обедняешь ты с полтинника, земляной черт! – добавил он покруче для пущей убедительности.
Потянулось неловкое молчание, в течение которого Манюкин то барабанил пальцами о стол, то пробовал пофрантоватей перевязать свой веснушчатый галстучек. Николка хмурился и выжидал, не решаясь на бессмысленную в его понимании потрату.
– Лучше садись-ка пиво с нами пить, – недружелюбно обронил он, на всякий случай избегая баринова взгляда.
– Спиртного на работе не принимаю, простите великодушно. На жизнь зарабатывать надо… – тихонько и настойчиво отклонил Манюкин. – Кушать ежедневно требуется, тоже и за квартиру-с… кроме того, налог платить: с меня налог положен. Да вы не робейте, один ведь только полтинничек! – и преклонил голову набочок с видом терпенья и готовности услужить в меру своих возможностей.
– Заработок это у него, пойми, скудного ты ума человечина, – эхом и заметно серчая на Николкину неуступчивость, заворчали со стороны, а один, в особенности нетерпеливый, даже присоветовал вполголоса, кто поближе, шарахнуть купца разок для вразумленья. – От полтинки не разоришься, а он, глядишь, за твое здоровье щец горяченьких похлебает, лишний денек проживет. Ну, артист он, артист в своем роде… смекаешь теперь?
Тогда Николка стал было застегиваться, готовый сперва и к побоищу, но потом, осознав уединенность места и количество противников, сдался, сгреб в кармане всю, какая нашарилась, медную мелочь и вместе с крошками выложил на стол. Денег на глазок, без счета, хватило с избытком, гривен на восемь.
– Про что рассказывать прикажете? – с благодарным полупоклоном справился Манюкин, не прикасаясь к монетам, как бы в ожидании, чтоб поостыли.
– Сказывай, ждет он… – угрожающе зашевелился гражданин с флюсной повязкой, налегавший на Николкино пиво с явным намерением разорить треклятого нэпмана.
– О, не беспокойтесь, у нас вся ночка впереди… – умоляюще, в сторону непрошеного заступника, выставил руки Манюкин. – Назначайте.
– Из чего назначать-то? – озираясь, переспросил Николка.
– У меня большой выбор имеется… – заторопился рассказчик. – К примеру, вот довольно забавная историйка, как я чуть с ума не спятил от любви на заре моей жизни. А то лицейская поездка в Царское Село с тремя такими штучками, и каким конфузом обернулось дело. Можно также и про лошадь… как я одну бешеную кобылу усмирял. Имеются у меня и другие эпизодцы, только вам непонятно будет…
– Вали тогда про лошадь сказывай! – выбрал наконец Николка, с подозреньем поглядывая на серые заросшие щеки, на заискивающие руки, на заерзанные брючки барина. – Лошади страсть моя… – признался он изменившимся голосом, а незнакомец Митька кинул на него при этом быстрый примеряющийся взгляд.
– Можно и про лошадь… про все можно! Исторыща, правда, не особо длинная, зато чуть жизни мне не стоила, – предупредил Манюкин, усаживаясь на подставленный кем-то стул и с разбежавшимися зрачками набираясь вдохновенья.
Он досадливо обернулся на говорок в углу, мешавший ему сосредоточиться, и там мгновенно стихли. Движеньем руки он отказался также от протянутой сбоку папироски.
– Не записывайте, я не разрешаю записывать… – поверх всех покричал Манюкин сочинителю, едва тот пристроился со своей бумагой за соседним столиком. – Не стыдно вам хлеб нищего присваивать? – И снова молчал он, и по тому, как потирал себе плешивую голову для оживленья памяти, как оглаживал проштопанное колено то в одном, то в обратном направлении, видно было – каких чрезвычайных усилий стоило ему стронуть с места ржавую машину воспоминаний. – Так вот, с вашим покорным слугой случилось однажды, тому уже поболе годов сорока, когда еще никого из вас на свете и в помине не было…
IV
Черный хлеб своей беспутной жизни барин Манюкин добывал враньем, то есть рассказываньем заведомых небылиц, какими, впрочем, становятся к старости даже совершенно достоверные, как раз наиболее дорогие сердцу эпизоды, в особенности – после жестоких житейских или политических крушений. С целью заработка он всякий вечер с неизменной точностью заявлялся сюда, в подвал, за гулящими полтинниками, причем всегдашними потребителями его бывали людишки со столичного дна: прокучивающий казенные червонцы чиновник, запойная мастеровщина, бражничающий перед очередною садкой вор. Манюкин врал то с отчаянием припертого к стене, то, по миновании лет, с жаром наивного удивленья: ему, кое-как перебравшемуся через огненную реку революции, прошлое именно таким фантастическим и представлялось с нового, достигнутого берега. Он не старался применяться к грубым вкусам заказчика, немногие умели оценить цветы и перлы манюкинского вдохновенья, тем не менее его простодушные слушатели с интересом вникали в пороки, тайны и сарданапальские роскошества чужого класса, да еще в передаче столь осведомленного свидетеля их и участника. Нередко, когда иной раскутившийся скоробогач не щадил манюкинского достоинства, весь тот ночной сброд урчал и стенкой подымался на защиту – не артиста, не барина, не человека даже, а заключенного в нем горя.
– Итак, заехал я раз к старинному дружку моему Баламут-Потоцкому в придунайское его поместье. Лето тропическое стояло, помнится, и гроза шла. – Манюкин набрал воздуху в грудь, и все потеснее сомкнулись вокруг, стремясь поближе – ухом, глазом и случайным прикосновением – вникнуть в очередное приключенье. – Вхожу, а он – батюшки! – сидит у себя на терраске, какой-то весь насквозь проплаканный, и одной рукой пасьянс раскладывает, – «изгнание моавитян» назывался! – а другою пенки с варенья жрет. А вокруг все мухи, мухи! Призовой толстоты был человек и погиб в последнюю войну: записался рядовым, однако, не умещаясь в окопах, принужден был поверху ходить. Тут его и подстрелили…
– Наповал, значит? – подзадорили из публики.
– Вдрызг, аж брызнуло!.. – скрипнул Манюкин, и стул скрипнул под ним. – Чмокнулись мы, всего меня вареньем измазал. «Распросиятельство, – спрашиваю его озадаченно, – чтой-то рисунок лица у тебя какой-то синий?» – «Несчастье, – отвечает. – Купил, братец, кобылу завода Корибут-Дашкевича: верх совершенства, золотой масти, ясные подковочки. Сто тринадцать верст в час!..» – «Звать как?» – недоверчиво спрашиваю, потому что я лошадиные родословные наперечет знал, а про эту не слыхал. «Грибунди! – кричит, а у самого опять невольные слезы, помнится, даже плечо мне обмочил. – Дочь знаменитого киргиза Букея, который, помнишь, в Лондоне на всемирной выставке скакал! Король Эдуард, светлейшей души человек, портрет ему за резвость подарил… эмалированный портрет с девятнадцатью голубыми рубинами…» – «Объяснись!» – кричу наконец в нетерпении. «Да вот, отвечает, шесть недель усмиряем, три упряжки изжевала. Корейцу Андокуте, конюху, брюхо вырвала, а Ваське Ефетову… помнишь берейтора-великанища? Ваське это самое, тоже что-то из брюшной полости!» Я же… – и тут Манюкин подбоченился, – …смеюсь да потрепываю этак моего Баламута по щеке. «Трамбабуй ты, граф, говорю, право, трамбабуй! Я вчера пол Южной Америки в карты проиграл… со всеми, этово, мустангами и кактусами, а разве я плачу?»
– Как же ты ее проиграл? – недоверчиво протянул Николка, отирая пот с лица и с подозрением косясь на прочих слушателей.
– Обыкновенно-с, в польский банчок! Трах, трах, у меня дама – у него туз! Получайте, говорю, вашу Америку. Признаться, целый месяц чертовку проигрывал, велика! – отбился Манюкин и мчался далее, не щадя головы своей. «А ты, трамбабуй, из-за кобылы сдрюпился? Брось реветь. Член мальтийского клуба, и государственного совета, и еще там чего-то, а ревешь, как водовозная бочка!» А по секрету вам признаться, я с одиннадцати лет со скакового ипподрома не сходил: наездники, барышники, цыгане – все незабвенные друзья детства! Обожаю красивых лошадей и, этово… резвых женщин. У нас в роду, у всех Манюкиных, какой-то чертов размах в крови. Во младые годы дед мой, Антоний, чего только в Париже не выкомаривал! Раз крепостных мужиков запряг в ландо сорок штук, на ландо гроб поставил, в шотландскую клетку, на гроб сам уселся в лакированном цилиндре, с креповым бантиком, да так и проездил по городу четверо суток. Впереди отряд заяицких казаков на жалейках наяривает, а на запятках, извольте видеть, – полосатых индейцев восемь голов… Ну, тамошний префект, разумеется, взбесился…
– Да бывают ли они разве полосатые? – с подозрением, что его по нарочному сговору обставляют мошенники, переспросил Николка.
– Специально для этого случая из Доминиканской республики выписал, четверо по дороге в трюме погибли: экваториальный, девяносто шестой пробы менингит… Ну, взъярился этот чертов префект. «Ты, кричит, Антон, оскорбляешь не только наше французское гостеприимство, но и мировое религиозное чувство, и за это обязан я тебя поместить пожизненно в каторжные работы!» А дед только усмехается: в любимцах ходил у Екатерины-матушки, Потемкина подменял в выходные дни. «Вот положу, грозится, на ваш дурацкий Монблан триоквадро-бильон пудов пороху, да и грохну во славу российской натуры!» Пришлось старухе через римского папу дело расхлебывать: чуть до войны не докатилось дело.
– Ну, а кобыла-то?.. – облизал губы Николка, втягиваясь во вкус повествованья.
– Как заслышал я про лошадь, тут и разгуделся я: меня хлебом не корми, а дай усмирить какое-нибудь там адское чудовище! «Тащи его сюда, кричу, буцефала твоего… Я ему, четырехногому, зададу перцу!» – Манюкин дико повращал глазами и сделал вид, будто засучивает рукава. – Мой Баламут глазам не верит, жену позвал: «Маша, шепчет, взгляни на этого неузнаваемого идиёта… желает Грибунди усмирять!» Та кидается отговаривать… Между прочим, умнейшая в Европе, ангельского сострадания женщина, только вот велелепием личности особо не отличалась.
– А я даже имел счастье видеть эту даму в Петербурге… – полушутливо вставил Фирсов, в расчете приобрести на будущее время расположение рассказчика.
– Она вообще много тратила на благотворительность, и всегда у ее подъезда толпилась уйма всяких клетчатых щелкоперов… – при общем смехе отмахнулся тот от Фирсова, поперхнувшегося на полуслове. – Тут и Маша вместе с мужем на колени бросается меня отговаривать: «Пожалейте отечество, дорогой!» А я уж вконец осатанел: «Седло мне, – кричу в запале, – и я вам покажу восьмое чудо света!» Пробиваюсь сквозь толпу, потому что к тому времени уйма народу собралась, даже из соседнего уезда прискакали! И хотя ливень уже хлестал как из ведра, никто, заметьте, даже не обратил на него ни самомалейшего внимания. Вдруг слышу как бы подземный гул… Богатыри, шестнадцать человек, выводят ко мне Грибунди в этаком железном хомуту, глаза в три слоя мешковиной обвязаны, а меня издали чует, тварь, жалобно так ржет. «Ставь ее хряпкой ко мне!» – глазами показываю челяди. Поставили! «Сдергивай, кто поближе, мешковину!» Сдернули. Покрестился я, этово… как раз на Андокутю пришлось: высунулся из-за дерева с перевязанным брюхом, только что из госпиталя, и зубы скалит, подлец! Мысленно прощаюсь с друзьями, с солнышком, да с ходу как взмахну на нее… и даже ножницы, помнится, сделал: старая кавалерийская привычка. Даю шенкеля – никакого впечатления: тормошится, ровно старый осел! Баламут мой, вижу, побледнел со страху, будто в саване стоит, а у меня как раз наоборот, характер такой потешный: чем грозней стихия вокруг, тем во мне самом спокойней. И даже такой, братцы мои, холод во мне настает, что дождик стынет и скатывается с плеч ледяной дробью, седьмым номером. И вдру-уг… – Манюкин живописно втянул голову в плечи, – как прыганет моя Грибунди да семь раз, изволите видеть, в воздухе и перекувырнулась. Тотчас седло на брюхо ей съехало, пена как из бутылки, хребтом так и поддает… «Боже, – сознаю сквозь туман, – и на кой черт далась мне эта слава? Она ж без потомства меня оставит!» Полосую арапником, сыромятную уздечку намотал так, что деготь на белые перчатки оттекать стал: ни малейшего впечатления! Закусила удила, уши заложила, несет с вывернутыми глазищами прямо к обрыву: адская бездна сто сорок три сажени глубиной! Небытием оттуда пышет, вдали Дунай голубеет, и на горизонте самое устье впереди, и даже видно, как… морские кораблики в него вползают, и тут кэ-эк она меня маханет!.. – Манюкин со стоном вцепился в край кресла и выждал в этой позе несколько мгновений, чтоб показать, как оно было на деле. – Впоследствии оказалось, об скалу на излете треснулся: полбашки на мне нету, а я даже сперва и не заметил! Припоминаю только, будто этакие собачки зелененькие закружились в помраченном сознании моем. Хорошо еще, упал удачно, прямо на орлиное гнездо! Очнулся, вижу – Потоцкие на альпийской веревке ко мне спускаются. «Жив ли ты, – кричат на весу, – задушевный друг, жив ли ты, Сережа?» – «Жив, – отвечаю ослабевшим голосом, – кобыла немножко норовиста, пожалуй, зато в галопе, правда твоя, изумительна!..» Ну, отыскали там недостающие части от меня, залили коллодием, чтобы срасталось…