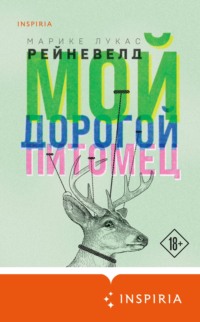
Мой дорогой питомец
3
«Курт, – сказала ты однажды днем, который был теплым, как внутренности полорогого животного. – Я должна тебе кое-что рассказать, я была там в тот сентябрьский день в Нью-Йорке». Сначала я не понял, действительно ли ты назвала меня Куртом или я это вообразил, но предположим, что ты действительно обращалась ко мне, прямо и серьезно; я стоял рядом с загонами для телят и сжал разрезанный мешок молочного порошка так крепко, что из него вылетело облачко, и я удивленно осознал, что ни в одном романтическом фильме в горячий сезон страсти не было снега, потому что зритель почувствовал бы, что его подло надули, и потребовал бы у видеопроката деньги назад; зритель хотел видеть реалистично цветущую любовь, хотел представить, что она может случиться и с ним, а я уже тогда знал, что мы необыкновенные, уникальные, хотя и считал, что слово «уникальный» уродливое, как откормленный на убой бык, и я тогда не понимал, что точно так же занимался откормом, рядом с тобой я каждую минуту наращивал свою массу, я превратил свою безрассудную страсть в мясного теленка, что становился все более и более голодным, почти разъяренным, и в то же время меня смущало, что ты назвала меня Куртом, я имею в виду: насколько же ярко я тогда царил в твоей голове, и не стану ли я в конечном итоге песней, которая больше не выйдет из твоей головы, и ты будешь все время ставить меня на повтор в тщетной надежде, что обнаружишь что-то новое, от чего я засверкаю и не потеряю блеска, или ты думала, что сможешь найти что-то, что успокоит тебя и проведет через это сумасшедшее лето? Может быть, я был для тебя подчеркнутой фразой, которую ты не заметила в текстах, что я тебе дал, или, по крайней мере, не поняла смысла, и, может быть, я сам тоже остался незамеченным, но у меня не было времени долго раздумывать над этим, потому что ты назвала меня Куртом, и это прозвучало стесненно, а я стоял сапогами в снегу из молочного порошка, а головой под палящим солнцем, между блаженством и жгучим разочарованием, и ты сказала, что была там, ты прилетела туда после того, как первый самолет врезался в Башни-близнецы, что ты по-настоящему умела летать, не в воображении, а из-за ошибки Бога или, может быть, это была твоя секретная способность, и ты спросила, что я думаю о том, что ты каждый вечер стояла на краю кровати, тренируясь перед следующим полетом, что ты станешь первым летающим человеком и однажды взлетишь вот так во второй раз, теперь – с башни для хранения силоса, полетишь над полями, над сахарной свеклой и пшеницей, над чистой водой Маалстрома; однако, сказала ты, я должен иметь в виду, что ты не вернешься, невероятно, ты улетишь навсегда, а иначе это просто фокус, а фокусы быстро забываются, а может, ты и впрямь станешь перелетной птицей и будешь возвращаться только летом, тебя будут считать с земли во время сбора урожая, тогда все будут рады тебя видеть; да, тебе это нравилось: жители этой Деревни будут показывать тебе вслед, когда ты взлетишь, и заявят, что знают тебя – но они не знали, что все это время тебе удавалось прятать от них свои крылья, они шептали, что в тебе всегда было что-то особенное, но не крылья, нет, они не смотрели тебе за спину, – и они будут наблюдать, как ты пронесешься над реформатской церковью, облетишь начальную школу, а потом направишься через плотину на юг, и все под тобой станет маленьким, маленьким, как картошинка, сказала ты, а еще лучше: как горошинка. Так что я об этом думаю? Ты выделила эти слова, я это понял по тому, как твой язычок жадно скользнул по губам, чтобы слова прозвучали сочно, и ты рассказала, что прилетела в Нью-Йорк в тот трагичный сентябрьский день и услышала внизу крики людей, сирены, и во время твоего полета офисные бумаги, выпавшие из башни, становились голубями мира; правда-правда, говорила ты, они становились голубями мира, и ты видела, что какие-то люди выпрыгивали из окон, слышала глухие хлопки их падающих тел, как будто они были мешками с молочным порошком, а затем появился другой самолет и врезался во второе здание Башен-близнецов, и ты иногда сомневалась, самолет ли это был, или в здание влетела ты сама, сначала головой, потом фюзеляжем, а затем остальными частями тела, ногами, и ты думала, что это все твоя вина, и я видел слезы, стоявшие в твоих глазах, и я подумал, что тебе тогда было всего десять, но я позволил тебе рассказать, что ты часто фантазировала, как какой-то самолет разбился на ферме Де Хюлст, и ты могла слышать, как рушатся стены, звенят стекла, и могла видеть своего папу, да, видеть, как твой отец лежит под правым крылом, а они в это время целились в тебя, говорила ты, и, возможно, ты бы сдалась, сказала бы решительно: это была я в тот день, я была самолетом, я подожгла Нью-Йорк, я заставила мир плакать, а теперь я хочу утешить мир, выдав виновного. Прозвучало искренне, и это убедило меня, что ты по-настоящему верила в свою историю, и при этом удивительно легко переключилась на великолепие своих крыльев, какими удивительно красивыми и мощными они были с водоотталкивающими перьями; ты стояла в дверях коровника, и твои руки двигались так чудовищно грациозно, с каждым движением я видел, как перекатываются мышцы под твоей кожей, и мне хотелось кричать, что тебе нельзя летать, слышишь меня: никогда. Но вместо этого я яростно размешал ведро теплой воды с молочным порошком, пока не исчезли все комочки, и сказал, что прежде чем учиться летать, ты должна научиться приземляться, и сразу понял, что это был неправильный ответ, слишком поучительный, фу! Я разочаровал тебя, ты надеялась на что-то другое, может, что я буду в восторге от твоего плана побега, что я изгоню сентябрьскую катастрофу из твоей головы, и мне захотелось ударить себя по голове стальным венчиком, потому что твои крылья вяло упали вдоль тела, и я почти мог почуять запах пустоты, который проник в твою грудь, словно третий самолет, так же, как мог почуять издалека запах теленка с поносом, заразившегося каким-то вирусом; я был твоим вирусом, но тогда ты не могла этого знать, и я так хотел бы обнять твое нуждающееся в объятиях нимфеточное тело, потому что единственное, чего ты хотела – чтобы тебя увидели, чтобы ты стала той, на кого указывают вслед, но не как на тебя указывали в школе, что тебе не нужно подниматься так высоко, чтобы на тебя посмотрели, что есть тот, кто хочет, чтобы ты осталась здесь; пожалуйста, останься здесь, потому что поля без тебя покроются трещинами, потому что Маалстроум без тебя наполнится сине-зелеными водорослями или иссохнет и, кроме того, многие перелетные птицы не выдерживают сурового путешествия на юг, они падают вниз, словно манна небесная, но я не должен был этого говорить, я должен был согласиться с ходом твоих мыслей и с твоим ужасным признанием, я должен был представить тебя высоко на верху башни для силоса, о небеса, как же я содрогался от этой мысли! И я все продолжал мешать, хотя молоко уже давно было готово, а потом сказал, черт возьми, я сказал: «Я помогу тебе взлететь». Я встал, как будто это был фильм, затем замер с венчиком в руке, молоко с него капало на камни, и мне так хотелось размешать все комочки внутри твоей головы, но ты опять широко замахала руками, и по твоей тени казалось, что у тебя действительно были крылья, и вот ты вдруг начала с хихиканьем бегать по двору и закричала: «Я ворона, я ворона, я цапля, я птица, которой ты больше всего боишься». Потом ты рухнула в траву и лежала в ней как мертвая, глядя в голубое небо, и ты сказала: «Со мной что-то не так, что-то в корне не так». А через несколько секунд вскочила вновь, и я увидел, что птица исчезла из твоей души, что ты, склонив голову, вошла в коровник, где взяла скребок для навоза и принялась зигзагами выгребать дерьмо из щелей решетчатого пола, и я не сводил с тебя глаз, пока кормил телят, и что же еще мне было делать, кроме как заманить тебя к себе; я бы спас тебя, дорогая беглянка, я бы спас тебя без условий, и, должно быть, как раз с этого момента начались мои кошмары, в которых ты поднимаешься высоко на силосную башню, а под ней стоят могильщики, они смотрят на тебя, сложив руки козырьком над глазами, говорят, что пока не решишься на прыжок, никогда не узнаешь наверняка, и каждый раз, когда ты собиралась взлететь, я просыпался в поту и хотел позвонить тебе, чтобы успокоиться, но твой номер я получил намного позже, ты велела мне не звонить тебе, ты ненавидела телефонные звонки, ненавидела рингтоны, особенно песенку Шнаппи, маленького Крокодила, которая стояла на звонке почти у всех твоих одноклассников; кроме того, момент, когда вешали трубку, был для тебя самым трудным: как будто, когда линия прерывалась, узы крови или дружбы и вправду были разорваны – ты не знала, как завершать разговор, ты говорила, что слышишь помехи: «Алло, алло, я тебя плохо слышу». Да, тебе не нравилось звонить по телефону, твой номер появится у меня намного позже: я ел готовое блюдо из супермаркета из капусты, колбасы и подливки, а Камиллия и двое моих сыновей уехали на день в город, и я смотрел на цифры на экране телефона, пока не услышал твой чистый голос, я и правда оказался с тобой на связи, и лишь через несколько повторов я понял, что отвечала ты одними и теми же словами: «Это голосовая почта птички. Бип». И хотя я знал твой номер наизусть, я на всякий случай записал его под показаниями счетчика, и тем летом я все чаще и чаще заезжал к вам осмотреть телок, а затем в конце рабочего дня, когда туман от земли ложился на полях словно пена, угощался пивом, которое наливал мне твой отец, а я вежливо улыбался на его шутки и хвастовство, слушал рассказы о разных фактах про климат, и он думал, что это из-за его компании я становился таким оживленным, но это происходило только благодаря тебе, моя дорогая питомица; я медленно пил твою маленькую, стесненную и темную жизнь, и в конце вечера ставил пустые пивные бутылки в сарай рядом с обувной скамеечкой, и после этих бесчисленных бутылок домашнего пива я чувствовал, как оно безумно вспенивается и закручивается во мне, но тогда уже точно знал: я любил тебя.
4
Может, в этом не было ничего странного, может, это было совершенно нормально, что в то чудовищно жаркое утро я зашел в магазин кроватей. Я купил самый дорогой матрас, который у них был, из пены с эффектом памяти и холодной пены, и две подушки, наполненные утиным пухом; я перетащил матрас в кузов своего фургона, положил поверх расстегнутый спальный мешок, который принес из дома и на котором была вышита буква «К» в честь Камиллии, и я убедился, что сторона с буквой находится ближе к двери, чтобы ты ее не заметила, а затем мне на мгновение подумалось, что женщина, которой я уже обладал, лежала у моих ног, а женщина, которую я желал, недостижимо парила в моей покрывшейся пóтом голове; я озирался, опасаясь, не видит ли кто-нибудь, как я строю любовное гнездышко почти так же усердно, как их строят птички-лысухи, а потом поехал к тебе с грудью, полной как радости, так и отвращения к тому, что везу в багажнике, и все это исчезло, как только я увидел тебя и осознал: то, что я делаю – правильно, мы с тобой неизбежны, мы как бридж в песне, мы отличались от всего и всех вокруг. И я наблюдал, как ты игриво плюхнулась на матрас с книжкой «Джеймс и гигантский персик» Роальда Даля в руках и спросила, спал ли я на нем, и я немного пошутил, что да, я оборотень и ставлю машину на углу парковки чуть дальше по дороге, потому что хочу спать под луной, которая в ту неделю была похожа на нарыв в небе; и потом это уже не казалось шуткой – я все чаще ночевал в том углу, чтобы добираться до тебя как можно быстрее, и сиденье рядом со мной в конечном итоге покрылось пустыми пакетами из «Макдоналдса», засохшими контейнерами с майонезом для картофеля фри, бесчисленными упаковками из-под сэндвичей и банками колы с заправки, и, конечно же, помимо этого я работал и с другими фермерами и хозяйствами, но с ними я заканчивал быстро и возвращался в эту Деревню, к тебе, и, возможно, это было совершенно нормально, что ты валялась с книгой над головой и клала ноги мне на колени, на мои грязные рабочие штаны в коровнике, а я с трепетом касался всех твоих пальцев по очереди и нежно сжимал косточки, массировал их, как иногда массировал роговицу лошадиного копыта, и порой, когда становилось щекотно, ты осторожно дергала ногой, и тогда мне приходилось сдерживаться, чтобы не вырвать книгу из твоих рук, зашвырнуть ее в траву, а затем грубо и страстно затащить тебя к себе на колени, прижать нос к твоим еще влажным после бассейна волосам и вдохнуть твой запах из-под запаха хлорки: я не мог определить, из чего он состоит, и мне точно пришло бы на ум что-нибудь разочаровывающее – ты пахла собой и как никто другой, вот так, и когда я впервые коснулся твоей кожи, мягкой как коровье вымя, ты позволила моим ладоням с любовью скользить по пальцам твоих ног и притворяться, что я исследую их костную структуру, чтобы понять, здоровое ли ты животное, и ты сказала мне, что смотрела «Чарли и шоколадную фабрику» Тима Бёртона не меньше десяти раз и всегда считала, что Вилли Вонка – неприятный персонаж и чудила, потому что он позволял надоедливым детям влипать в неприятности, он приманивал их богатством всех конфет на своей фабрике и не спасал их от той опасности, к которой приводила их жадность: ты сказала, что всем жадинам на самом деле чего-то не хватает; а еще ты всегда проматывала песни в фильме, потому что тебя от них тошнило, и ты долгое время думала, что тоже однажды найдешь золотой билет в плитке шоколада, и все поймут, что тебе суждено уехать отсюда, но ты ничего не находила и вздыхала, что Роальда Даля похоронили с коробкой карандашей HB, его любимым шоколадом Prestat, бильярдными киями и пилой, и что на кладбище Грейт-Миссендена к его могиле вели следы Большого Дружелюбного Великана, и что ты хочешь когда-нибудь туда съездить, лечь на холодный камень и прошептать, что он спас тебе жизнь, хотя ты так и не объяснила почему, и сказать, что обладаешь способностями Матильды и вежливостью Чарли, и что ты не могла спать по ночам, после того как посмотрела «Ведьм» в пятом классе, а учитель сказал, что смотреть этот фильм можно только детям со стойкой душой, а ты подняла руку и заявила, что твоя душа была какой угодно, но не стойкой, и ты слышала, что Роальд Даль был не согласен с концовкой фильма, что она отличается от книги: Люк в фильме превратился из мыши обратно в человека; и ты слышала, что Даль стоял у входа в некоторые кинотеатры с мегафоном и кричал: «Don’t go there, it’s a mousetrap[9]». Ты бы хотела, чтобы он стоял у входа в твой класс, чтобы он сказал, что душа становится стойкой только тогда, когда несколько раз ее теряешь, и ты знала, что Роальд Даль однажды попал в авиакатастрофу, получил в ней перелом черепа и поэтому стал так здорово писать, и была уверена, что тоже испытала нечто подобное; хотя ты не разбивалась, когда впервые полетела, но тебе, должно быть, однажды что-то упало на голову, и поэтому теперь тебе в голову приходят такие мысли, и, возможно, это произошло потому, что ты пробила головой одну из Башен-близнецов, и тебе следует признаться на могиле писателя, что ты никогда не читала «Фантастического мистера Фокса», потому что не любила лисиц, которые откапывали мертвых кур-несушек, похороненных у реки; нет, говорила ты, у лис не было ни капли хороших манер, поэтому ты не хотела про них читать, и ты все болтала, а я все смотрел на тебя, моя маленькая добыча, на то, как матрас обнимает твое тело, и он был достаточно большим для нас обоих, но я не осмеливался лечь рядом с тобой, пока нет, а затем ты снова назвала меня по имени, пока мяла мои колени пальцами ног, как это делают котята, когда им хорошо, ты сказала: «Курт, я не знаю, иногда мне кажется, что ничего никогда не вернется в норму». Ты вздохнула, а затем снова перевела взгляд на строчки книги, и мне стало интересно, что именно так и не вернется в норму, но я не задавал никаких вопросов и ждал, пока ты продолжишь, и ты продолжила, заговорила о бассейне на краю этой Деревни, о парнях, которые прыгали с высокого трамплина, чтобы произвести впечатление на самих себя, на своих друзей и особенно на девочек, как однажды в шестом классе ты целовалась под водой, и не поняла, здорово это было или отвратительно, но потом выяснилось, что он поцеловал тебя только потому, что забыл деньги, а ты бы ему потом купила пакетик мармеладных лягушек «Харибо», поэтому ты называла его Лягушонком, и иногда ты думала о том поцелуе, который был на вкус как хлорка и немножко – как мальчик, и я спросил, о чем ты фантазировала, когда думала о Лягушонке, и я ласкал твои лодыжки и белую полоску от туфель там, куда не попадало солнце, и думал, что бледная ты намного красивее тебя загорелой, как если бы ты была из фарфора – такой я хотел тебя видеть, моя фарфоровая девочка, и я знал, что ты давно перестала читать свою книгу, я видел, как твои щеки порозовели, словно окрашенные краской для маркировки животных, которым я отмечал вакцинированных овец, и ты поперхнулась, а затем сказала, что в твоих фантазиях птица убивала Лягушонка, проглатывала его за один присест, а затем вдруг ты в него превращалась, и ты ничего не могла с этим поделать, и ты сняла ноги с моих колен, перевернулась на живот и сказала: «Больше всего я думаю о себе самой». И я не знал, какое отношение это имеет к Лягушонку, я прикоснулся к чему-то, о чем ты не хотела говорить, и я не мог ничего поделать с этим, я сидел там, охваченный неловким возбуждением, и не знал, хочется ли мне приласкать тебя или же разорвать на части – может быть, я хотел и того, и другого, боже мой, да, я хотел и того и другого, и грязные штаны для работы в коровнике натянулись у меня на члене, и я хотел прикоснуться к подошвам твоих ног, все еще в морщинках после плавания, и я хотел выкинуть из твоей головы строчки книг Роальда Даля и наполнить ее моими словами, но ты внезапно показалась такой далекой, словно больше не была частью моего стада; и все-таки я остался чрезвычайно доволен тем, как у нас все шло, и особенно покупкой матраса, моя машина стала нашим дворцом любви, я повесил на стену плакаты, один – с «Нирваной», а второй – с королевой Беатрикс, она посещала Деревню в прошлом апреле, и тебе разрешили прикрепить бутоньерку к груди принца Виллема-Александра, я наблюдал издалека, как ты нервно переминалась с ноги на ногу около церкви, боясь, что проткнешь ткань его костюма иглой и попадешь прямо в грудь, что ты убьешь принца Оранье-Нассау, и, не говоря ни слова, дрожащими руками ты прикрепила цветочную композицию, а затем написала об этом великолепную статью для школьной газеты, которую Камиллия проверила и дала почитать мне; было так трогательно, что ты набрала заголовок большими буквами с помощью WordArt, и я прочел первое предложение: «I am almost numb with cold, but the thought that I will soon see Prince Willem-Alexander keeps me warm»[10]. И тогда я не мог знать, что эта мысль не согрела бы тебя, что ты могла об этом думать и писать, но ты этого не чувствовала, ты хотела приласкать принца, и чтобы он приласкал тебя, но эта ласка не успокоила бы тебя, наоборот, заставила бы осознать все возможности потери, того горя, что ты в себе несла: как только ты бы полюбила кого-то, ты потеряла бы всю свою любовь, и это было бы непереносимо, и ты позволила бы ей завянуть как бутоньерке, или изо всех сил пыталась бы остановить увядание, что было столь же бессмысленно; и на следующий день после того, как ты освятила матрас, я фантазировал, заложив руки под голову и свесив ноги в ботинках через край кузова, что королева обратилась ко мне с плаката и торжественно сказала, что мне можно вступить в Орден Верности и Заслуг за то, что я никогда не покину тебя, дорогая питомица, и что я получу Медаль Спасения за то, что спасу тебя; я бы показал тебе, каково это – по-настоящему летать: я думал об этом, глядя на польдеры, на зонтики цветов вдоль дороги, и на мгновение испытал такое же блаженство, как когда был моложе, возможно твоего возраста, когда думал, что смогу стать кем угодно, и теперь у меня вновь возникло это чувство, только я стал именно тем, кем не хотел, я намеревался склеить тебя, а не сломать – вот только я всегда был неуклюжим, и в голове потемнело, давно уже не было такой темноты, и я увидел, как с луны капает гной, как он стекает по дверям моего фургона; я вспомнил, как однажды разбил воскресный материнский сервиз с цветочным орнаментом, и он разлетелся на осколки по твердому каменному полу кухни, и мне пришлось спать в сарае среди моих грехов и пышущих теплом шумных свиных туш, и той ночью я узнал, что милые розовые хрюшки не могут смотреть вверх, в небо, их шеи недостаточно гибкие для этого, и я был уверен, что Бога не может быть, нет, Бога не существует, и на следующее утро я сказал это матери, когда она позвала меня из сарая завтракать, и я увидел, как от моих слов ее вилка глубоко воткнулась в блинчик на ее тарелке; блинчики, которые она всегда пекла после того, как не знала, чем исправить свое злодейство, это были примирительные блины, и на вкус они всегда отличались от обычных блинов: тяжелее ложились на желудок, тесто было слишком сильно взбито, молока в нем не хватало, но я вывалил ей свои мысли о Боге, и тогда мне пришлось подняться по винтовой лестнице в ее спальню, что была напротив моей, где она сняла кухонный фартук и длинную благочестивую юбку, медленно, как будто надеясь, что передумает, но она не передумала и, расставив ноги, села на край кровати, приказала мне встать перед ней на четвереньки, по-собачьи, и я залаял, чтобы доставить ей удовольствие, чтобы рассмешить ее, я сказал гав-гав, но она не улыбалась, на ней были эти дурацкие высокие черные носки, и я все еще ощущал сахарную пудру на языке и губах, а затем она сказала хриплым голосом, который я слышал впервые: «Тебе нельзя останавливаться, пока Бог снова не окажется в тебе».
5
Дорогая моя небесная избранница, я не мог не думать об этом проклятом Лягушонке. Мысленно я клал его на свой складной операционный стол, чтобы расчленить и увидеть в нем то, что видела ты, но каждый раз, когда я пытался воткнуть скальпель ему в живот, он подпрыгивал и с кваканьем ускользал прочь, и мне надо честно признаться тебе – из-за него я становился таким ревнивым и воинственным, и ох, я знаю, как это было глупо с моей стороны, но в какой-то момент я начал преследовать тебя, когда ты ехала на велосипеде по Киндербалладевех к бассейну с купальником, полотенцем и пакетиком чипсов со вкусом паприки под ремешками багажника; чипсы крошились, пока ты доезжала до места, и ты думала, что их стало больше, и я, незаметно последовав за тобой, считая, что ты там будешь целоваться с Лягушонком – адом был не поцелуй, но знание, что во время этого обмена слюной для меня не останется места, что твоя голова будет занята кем-то другим: я хотел полностью владеть тобой, ты должна быть моей, только моей. Иногда я дремал на парковке у бассейна, измученный этими утомительными днями, этой охотой, и меня будил Лягушонок, который сидел на приборной панели и квакал, что я никогда не овладею тобой, и чем больше я считал, что ты моя, тем меньше правды в этом было, и порой, когда я резко просыпался, тебя и вправду уже не было, я больше не видел твой красный «Хазелле», припаркованный среди других велосипедов; однако обычно я ехал за тобой на безопасном расстоянии и видел, как ты наклоняешься к рулю против ветра, словно в слаломе объезжаешь белые полосы на тротуаре, а затем, когда мы одновременно приезжали на ферму, ты с улыбкой смотрела на меня и говорила «вот совпадение», а я отвечал: «настоящее совпадение» — и исследовал твое личико по направлению ко рту, чтобы увидеть, не стали ли твои губы краснее, пухлее, не летят ли из них бабочки, и не мог спросить тебя, виделись ли вы с Лягушонком, потому что после того как ты заканчивала кое-какие дела в коровнике для па, сразу шла в свою комнатку, а потом я услышал, как из твоего окна звучат The Cranberries, и задрожал, хотя на улице стояла жара, задрожал от фразы «We must be mistaken»[11]. Нет, подумал я, мы не ошибаемся, и я не знал, ты пела потому, что нашла любовь, или потому, что хотела найти; я размышлял об этом, когда шел среди голландских коров по пашне и пытался прислушиваться к твоему па, который жаловался на засилье кротовых нор, на ловушки, которые мы должны были поставить, и на мгновение я понадеялся, что сам попаду в такую ловушку, что все закончится, я окажусь в кротовой ловушке и скажу твоему отцу, что я ослеп, ослеп от тебя, но постепенно снова стал видеть свет, а потом эти мысли исчезли так же быстро, как и пришли, потому что на пашню вышла ты, ты впервые надела это белое платье с рукавами-фонариками, и я заметался, моя небесная избранница, я заметался между восхищением, обожанием и ревностью, и я видел, что тебе не по себе, ты не была уверена, что в платьице ты – все еще ты, но я видел тебя сквозь просвечивающую ткань, об этом я не беспокоился, я беспокоился о другом, зачем и для кого ты это сделала: для меня или для Лягушонка? И ты почти застенчиво сказала, что ужин готов, что картошка немного пережарилась, но мясо в порядке, и спросила, присоединюсь ли я, твой брат поест у своего друга, и этого было более чем достаточно, ты коротко глянула на своего па, он одобрительно кивнул, и я готов был возликовать, но я кивнул, просто кивнул, а затем быстро отвернулся от тебя, и только потом понял, насколько это было грубо, насколько надменно, и прежде чем мы сели есть, ты сняла платье и переоделась в бесформенную рубашку и пару расклешенных джинсов: со спины было непонятно, мальчик ты или девочка, и я подумал, что ты и сама этого толком не знаешь – что ты имела в виду, когда сказала, что стала Лягушонком? Это не имело значения, я бы научил тебя, чем мальчик отличается от девочки, как я помогал однокурсникам изучать анатомию крупного рогатого скота – я показывал бы указкой и называл бы все части тела, а ты бы лежала голая на матрасе, да, ты бы лежала голая, а я показывал бы на все, от твоей локтевой кости до копчика; и я встряхнул головой над тарелкой дымящегося картофеля, шницеля и стручковой фасоли, чтобы ты не сидела раздетой прямо передо мной, и я улыбнулся тебе и затем небрежно спросил, как будто не ожидая стоящего внимания ответа, но все же с достаточным интересом в голосе, потому что я знал, насколько ты чувствительна к подобному, к искреннему интересу, я спросил, хорошо ли ты искупалась, и ты радостно кивнула, ты рассказала, как здорово быть невесомой, плавать под водой, как ты оказалась быстрее всех своих друзей – ты лучше всех выносила руки над поверхностью воды, когда плыла брассом – именно так выходит быстрее всего, – и ты снова сказала, что невесомой быть приятно, и только потом я узнáю, какое это важное слово – «невесомая»: когда ты похудела так сильно, что не за что стало держаться; и я тебя слушал, но перед глазами стояла картина, как твои губы снова и снова прижимаются к губам Лягушонка, воображал, как твой маленький язычок переплетается с его языком, я жестоко давил картофель вилкой и видел, что ты что-то скрываешь, потому что иногда ты украдкой поглядывала на своего отца, который, не поднимая глаз, запихивал в себя еду, как будто мы в любую минуту могли забрать его тарелку: казалось, он не следил за нашим разговором, все, что было слышно – это звук ложки, постукивающей по его зубам с каждой порцией яблочного соуса, а в перерывах между этими постукиваниями ты рассказывала о новой песне Бонни Тайлер, которую ты для себя открыла, с альбома Faster Than the Speed of Night, она называлась Total Eclipse of the Heart, и, очарованная, ты сказала, что не можешь перестать ее слушать, что ты задаешься вопросом, каково это – когда сердце скрыто в тени, и тебе кажется, что это очень красиво и верно, да, верно, что любовь скрывается лишь во тьме и что иногда и у тебя возникает мысль, что ты распадаешься на части; а затем ты вдруг вскочила на стул, подождала, пока я направлю на тебя все внимание и отложу вилку, и ты стояла на стуле, на своей первой сцене, и чувствовала себя прекрасно, чувствовала себя непобедимой, чувствовала себя избранной, и ты запела, чисто и искристо: And I need you now tonight, and I need you more than ever, and if you only hold me tight we’ll be holding on forever[12]. Тогда я узнал наверняка, что ты влюблена, и не мог понять, надо ли мне сходить с ума от радости или же устроить тебе допрос с пристрастием и выслушать о твоих приключениях в бассейне, но тут ты снова села и положила в рот кусок шницеля, ты на мгновение покраснела, что заставило меня снова задуматься, из-за меня это (скажи «да», пожалуйста, скажи «да») или из-за Лягушонка, и я не cмог удержаться от ревности, не смог не рассказать, сколько лягушачьих трупов мне попалось по дороге сюда: из-за жары некоторые из них налипли на шины, и мне пришлось соскребать их пластиковым бейджиком с именем, прикрепленным к нагрудному карману ветеринарного халата, и я увидел, как с твоих щек сходит румянец, и когда твои глаза стали пустыми, и ты принялась накалывать фасоль на вилку, я остановился и закончил: «Не все лягушки могут прыгать одинаково высоко». Ты больше не смотрела на меня, даже после того как задала свой вопрос, и я не мог понять, что у тебя на уме, но ты задала его – это уже после того, как я тебя расстроил, ты спросила: «Курт, ты не хочешь посмотреть мою комнату, мое птичье гнездо?» И я взглянул на твоего отца, который принялся за ванильный крем и был настолько погружен в себя, что ничего не заметил, или, может быть, он думал, что это нормально – и мы встали, осторожно отодвинули стулья и поднялись наверх, в твою комнату, и я немного неловко присел на край твоего стола рядом с открытой тетрадкой по математике, но мое сердце пропустило удар от охватившего меня восхитительного детского восторга: синие как океан обои на стенах, ряд плюшевых игрушек на кровати, словно ночная стража, на стене плакаты из журнала «Все хиты», из экземпляра, выпущенного в год твоего рождения, который ты получила от потерянного, с Мадонной, Джулией Робертс, Джоном Стамосом и группой De Kreuners, еще там было стихотворение Фрэнка Эйрхарта, его последняя строчка гласила: «Нет в море горечи», – несколько фотографий, прислоненных к корешкам книг в шкафу, и твоя коллекция компакт-дисков «Берт и Эрни», и ни на одном фото ты не была той, кем на самом деле являлась, ты везде позировала, как делают четырнадцатилетние девушки, которые соблазняют, но не знают, что такое соблазн, их глаза говорят, что они хотят тебя, но еще лучше будет, если ты дашь им побольше карманных денег, они желают, чтобы им поклонялись, но предпочитают, чтобы кто-то защищал их от мира, они хотят шикарной жизни и в то же время воображают себя невидимками – и я видел все это в тебе, но ты зашла дальше, чем твои подруги, которые стояли рядом с тобой словно манекены, ты была другой, ты так глубоко размышляла обо всем, что через некоторое время даже я больше не мог за тобой угнаться, ты была под водой, и мне было трудно добраться до тебя, ты была птицей, которая позже станет знаменитой, ты была моей добычей, и внезапно у меня закружилась голова, я пробормотал, что плохо себя чувствую, что мне нужно идти, что мне жаль, я повернулся и заковылял вниз по лестнице, к припаркованной на гравийной дорожке машине, и с тошнотворным чувством помчался домой по набережной, как тогда, когда я возвращался от того фермера и думал, что если поеду быстрее, то скорее избавлюсь от картины его повешенного тела на сетчатке глаз, но точно так же, как я не смог избавиться от фермера, я не смог избавиться и от тебя, и, чтобы помучить себя еще больше, в кабинете я включил песню Бонни Тайлер, дорогие господа, я плакал, да, я рыдал из-за тех ужасных, чудовищных желаний, которые у меня к тебе возникали, из-за Лягушонка, что жил в твоей голове, хотя я и знал, что это продлится недолго, что я смогу с легкостью справиться с Лягушонком, я смогу расплющить его раньше, чем он успеет засунуть в тебя свой язык, и именно в ту ночь я впервые дал себе волю, моя дорогая питомица, я дал себе волю и яростно расстегнул штаны, и когда я грубо стирал со щек слезы, я понял, что потерян, моя плоть была так слаба! Я снова попытался вспомнить сильно накрашенные глаза Бонни Тайлер, ее хриплый голос, но все, что я видел, это ты, стоящая на пашне в своем белом платье, и я думал о нас, вместе, на матрасе, а потом, совсем недолго, о королеве, которая обращалась ко мне, говорила о моей спасательной операции и прикалывала наградную ленточку, а потом – снова о тебе, о тебе, о тебе!

