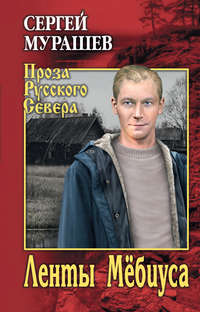
Ленты Мёбиуса
…Поэтому, когда застонала старушка, Алёша не сразу сообразил, что происходит. Старушка не стонала – кричала, только голос её, рождающийся глубоко внутри и преодолевающий много преград, вытекал из перекошённого рта на бледном сморщенном лице всего в один протяжный звук:
– Иииииииии…
Поезд уже почти остановился.
Все трое смотрели в окно, которое находилось напротив купе. Алёша вскочил, подбежал к окну и наискосок посмотрел!..
На платформе несколько уазиков, люди в камуфлированной форме, с автоматами, с овчарками на поводках.
– Что это?
– Зэков принимают, – спокойно ответила краснолицая женщина, сидящая на боковой полке у окна. Женщину знобило, отчего она с головой куталась в большой пуховый платок.
Старушка застонала с новой силой, по лицу её текли слёзы. Старичок, как мог, успокаивал жену. Но она пришла в себя, лишь когда тронувшийся вновь поезд набрал ход.
– Мы ведь к сыновьям едем, в заключение. Вот мы с Машей, и вот Алёна, попутчица. …Получилось у нас вот так… Ночку ночуем, и обратно, – пояснил старик.
– Все они маленькие хорошие, молоком пахнут, – откликнулась на его слова краснолицая женщина, – а вырастут – вином и куревом.
После этого уже больше никто не прерывал молчание вплоть до следующей станции. Старушка совсем поникла, ослабла, руки её безвольно лежали на сиденье, плечи и голова опустились, словно до этого, как кукла, двигалась старушка с помощью нитей, теперь обрезанных.
Поезд, подходя к станции, начал сбавлять ход.
– Приехали, – выдохнул старичок.
«Приехали», – мысленно повторил Алёша.
Первой поднялась и пошла к выходу краснолицая женщина.
Алёша замешкался. Он не помнил, где оставил свою сумку, и минуты две искал её…
…В тамбуре Алёшу ждала проводница.
– Опаздываете, – сказала она улыбнувшись.
– Опаздываю.
Но прежде чем выйти, он оглядел станцию. …Небольшой вокзал, небольшая, залитая солнцем площадь, которую пересекают тени тополей. То тут, то там клочья скатавшегося тополиного пуха, что ещё недавно кружил снегом. Люди, как и везде, спешат куда-то…
Алёша с улыбкой вспомнил, что его сумку, по словам молодого мужчины в лёгкой заношенной куртке, милиционеры-линейники чуть не приняли за бомбу. Не стал спускаться по лесенке, прыгнул на перрон с первой ступеньки, спугнув из-под ног небольшую стайку разлетевшихся в разные стороны голубей.
7Уже совсем разутрило. Солнце, поднявшееся из-за тополей, ощутимо пригревает – а в тени … прохлада. На станции пыльно, шумно… Алёша решительно пробрался через зазывающих таксисов к автовокзалу. Оказалось, что на автобус, нужный ему, уже идёт посадка.
Автобус снизу весь в пыли, по которой неприличные надписи. Люди, стоящие перед его открытой дверью большой овальной каплей, потихоньку втягиваются внутрь, каждый покупает билет…
…Неожиданно Алёшу сзади ладонью плашмя больно ударили по спине. Так, что прижгло и, наверно, ушиблось сердце.
– Здорово! Чего, опять вафлю ловишь?
Алёша оглянулся. Перед ним стоял раскрасневшийся, крепко, плотно сложенный парень в спортивном костюме. На лоб его свисала тёмная чёлка, а рот кривила ухмылка, постепенно пропавшая.
– …Извините, обознался. …У нас в деревне есть один, – он покрутил пальцем у виска и обогнул Алёшу. Обернувшись, ещё что-то говорил, явно виноватясь, но Алёша его не слушал. От неожиданности удара у него звенело в ушах.
…В автобусе, дребезжащем на неровностях дороги, пыльно, душно, воняет бензином, запах которого, кажется… отдаётся болью в затылке.
«За что?» – думал Алёша. В глазах копились слёзы. Алёша, стараясь не выпустить их, слегка запрокинул голову, с силой сжал веки …сквозь одолевающие его мысли, разобрал сказанные над самым ухом слова: «Ты поплачь, поплачь, лучше станет».
Алёша обернулся на голос. В проходе стояла строгая на вид пожилая женщина. Она перехватила Алёшин взгляд и кивнула на маленькую девочку на соседнем сиденье, скуксившую от каких-то переживаний лицо. Длинные русые волосы девочки касались Алёшиной руки.
Алёша долго не мог оторвать взгляд от соседки. Клеймо, хотя и плотно прижатое к спинке сиденья, ныло. Наконец он улыбнулся малышке. …Почувствовал, что левый его локоть касается …холодившего сквозь рубаху, окна. Алёша повернулся к нему и сквозь стекло, давно, похоже, не мытое, стал встречать и провожать взглядом убегающее назад придорожное пространство.
Проезжали поля с небольшими перелесками. По полям, как богатыри, копны сена, кое-где трава ещё не скошена. В конце одной из деревень, около дорожного знака-таблички, перечёркнутого красной полосой, стояли женщина и мужчина.
Женщина пожилая, маленького роста, но полная, одета по-походному: в широких брюках, заправленных в резиновые сапоги, в мужском пиджаке, в соломенной широкополой шляпе с вицей в руках. Женщина, видимо, пасёт коров, которые ходят невдалеке. …Мужчина, лет тридцати, высокий, худой, с длинными руками и большими ладонями, в шлёпанцах, в чистеньких, почти не запылённых, спортивках, вытянутых у колен, в распахнутом пиджаке на голое тело и без шапки. На небритом лице неопределённая гримаса, рот открыт, слабая грудь выпучена. Мужчина стоит перед женщиной, выставив вперёд правую ногу, опирающуюся на пятку. Руки его раскинуты в стороны, причём одна поднята выше плеча, а вторая опущена почти до бедра – словно до самого предела гармошку растянул…
Уже засыпая, Алёша вспомнил Серёгу, который с первого дня учёбы в техникуме ходил на музыкальный кружок и играл на баяне. В то время Серёга часто просиживал до полночи, перебирал в воздухе пальцами, словно по клавишам своего инструмента, и еле слышно пел…
* * *Алёша едва не проспал своей остановки. Его разбудил водитель. Со сна не сразу разберёшь, где находишься. Алёша, кинув сумку на землю, растёр лицо руками. …С одной стороны асфальта, по которому, как замок по молнии, убегал автобус, село Андреевский Погост, о чём говорит табличка, с другой – молодой лесок и поворот на грунтовую дорогу, ведущую в Алёшину деревню. Таблички с указанием названия деревни около поворота нет. Торчат только остатки двух взятых на излом, свороченных в сторону, столбиков. Один столбик сломан почти у самой земли, второй – повыше. Сам измятый знак валяется в канаве.
Алёша свернул на грунтовую разъезженную дорогу. В леске прохладнее. Чем дальше уходишь от асфальта, тем приятнее отдыхающему слуху. Шум редких машин всё слабее и невнятнее, он вязнет, не может пробраться в это царство. Кругом разговор, щебет невидимых птиц; перешёпот деревьев, кустов и трав, отправляющих свои послания друг другу… с помощью ветра. Даже дорога отвечает на каждый шаг – песчинки, придавленные модными кроссовками, негромко поют свою песню.
…Лучи солнца, преломившись в кронах деревьев, пройдя через сита, устроенные листьями, образуют такой необычный, сотканный, почти осязаемый, почти ложащийся лёгкой тканью на кожу лица и рук свет, что непривычному глазу приходится щуриться, разглядывая на земле и стволах деревьев необычайные, живые дрожащие картины.
Если бы не назойливые комары, ползущие в глаза и уши, старающиеся напиться крови, чтобы оставить своё потомство, разве бы ушёл Алёша отсюда. Лёг бы ничком, а может, навзничь, и долго спал, набираясь сил, вдыхая запахи земли.
…Камень Алёша заметил издали. Тот стоял у кромки леса, прямо перед полем, залитым светом. На голубой гладкой поверхности камня, с которой убежала гревшаяся на солнце ящерица, большими зелёными буквами было выведено:
прямо пойдёшь
будет дерев
Всего в нескольких сантиметрах от камня виднеются шляпки двух маслят, влажные, блестящие, одна с пятак, а вторая чуть поменьше. Если подумать, что это… глаза – получается, – один с прищуром. Рядом с маслятами капельки земляники. Её здесь уже кто-то собирал – есть пустые звёздочки чашелистиков. Алёша съел самые спелые ягоды, не тронув остальные. Ещё раз глянул на надпись и, улыбнувшись, перешагнул через длинную тень от камня, пересекающую дорогу.
8За леском открывалось большое широкое поле. И всё оно в белой цветущей ромашке, словно со светлой водой озеро. Алёше захотелось!.. Он не удержался – откинул сумку в сторону, упал на землю и на коленках пополз вдоль по дороге, окуная лицо в ромашковые воды. Цветы щекотали своими лепесточками подбородок, щёки, губы, нос, лоб, полуприкрытые глаза. Алёша снова и снова окунал в ромашки голову, поворачивая её то одной щекой, то другой, втягивая ноздрями густой травяной дух.
– Что, приехал?! – услышал вдруг.
– …Чего?
– Да я тут, ты обернись!
Алёша ловко поднялся и, отряхивая с джинсов пыль, осторожно посмотрел на человека, что испугал его.
Это был паренёк лет десяти. Довольно худой, в кедах, в тёмных спортивках, в однотонной зелёной футболке. На коротко стриженной голове не было шапки, левая щека расцарапана, ранки уже подсохли, начали затягиваться. Руки паренька лежали на руле небольшого исшарканного велосипеда без рамы.
– Ты к бабке Анне приехал? – спросил паренёк.
– Да.
– Так и знал. Пошли провожу. – Он сел на велосипед и со скрипом принялся медленно накручивать вокруг идущего Алёши круги.
– Меня Женька зовут, – представился деловито.
– Алёша.
– Ты в телеграмме не написал, когда приедешь. Забыл, что ли? Но ладно, бабка Анна сегодня утром у тебя дома уже топила, чтоб жилым пахло.
– Так тебе специально было поручено меня встречать?
– На-а-до больно, – протянул Женька, разогнал велосипед, проехал метров пятьдесят и резко, так что заднее колесо занесло, затормозил. Довольный, стал дожидаться Алёшу.
Деревню уже хорошо видно, хотя до неё ещё шагать и шагать. Она поставлена на холме, один склон которого довольно крутой, а другой – пологий. От реки к деревне поднимаются две расходящиеся в стороны, идущие наискосок тропинки. Домики издали аккуратные, совсем как на картинках или больших стенных календарях. Все дома бревенчатые, один из них, видимо, обшит вагонкой и выкрашен в розовый цвет. Сразу за деревней, на холмике-пирожке, церковь в кругу берёз. Издали неопытному человеку она кажется действующей. Прямо в поле, ещё перед рекой, стоит большое серое здание, напоминающее барак из фильмов про войну.
– Мне мама говорила, что, если смотреть как раз отсюда, с поля, её деревня на большой рыбе стоит, на ките. Правда, похоже? – спросил Алёша.
Женька торопливо глянул на деревню:
– Не-е, ка-кая рыба? Ты чё? – при этих словах он смешно вытянул худую шею и чуть приподнял голову…
Сделав кружок перед Алёшей, Женька повернул вдоль по дороге, набрал ход и, обернувшись, крикнул:
– Я тебя у реки подожду! – Понёсся под гору, поднимая из-под колёс дребезжащего велосипеда пыль.
* * *У реки стояла, закрытая брезентом, легковая машина.
Женька, поджав под себя ноги, сидел на переходе через речку, велосипед его валялся тут же, рядом с Женькой стоял на коленках белобрысый малыш в коротких шортиках, оба они внимательно наблюдали за поплавком закинутой удочки.
Переход – плот шириной метра полтора, собранный из брёвен с настланными поверх их досками, перекинут через речку немного наискосок и, видимо, уже старый, сделанный давно, потому что, когда Алёша ступил на него, в щелях между досками с чавканьем появилась и тут же пропала вода.
Женька, заметив Алёшу, встал, поднял велосипед.
– Ершей вон ловит, – кивнул он головой в сторону малыша. – Пойдём.
Они едва успели пройти бани, сгрудившиеся у перехода, как из обшитого вагонкой дома выскочил полный, высокий мужчина в узеньких плавках.
– Эх! Мы утро встречаем с рассветом!
Он стал ходко спускаться вниз, нисколько не боясь продавить своим весом глиняные ступеньки.
– Мы утро встречаем с приветом!
На половине спуска мужчина остановился и повернулся назад. Крикнул женщине, укутанной в тёплый халат, которая вышла из того же дома:
– Солнышко! Спускайся!
Женщина в самом деле, нащупывая одну ступеньку за другой, стала спускаться.
А мужчина вежливо ответил на приветствие Женьки и Алёши, пробежал мимо бань, выскочил на мостик и с ходу плюхнулся в речку, погнав в стороны большие волны, наделав много брызг. Вынырнул и сразу крикнул:
– Ой и хорошо! Приятная водичка!
Забрррыкал. Стал выбивать из ушей попавшую туда воду.
– Пошли! – снова позвал Женька.
9– Приехал! – обрадованно всплеснула руками Анна, как только Алёша вслед за Женькой вступил в избу. – Сейчас! Сейчас! Проходи к столу.
Алёша прикрыл тяжёлую дверь. Потолок и пол в избе из широких плах, крашены. Большая русская печка. Несколько шкафиков для посуды, несколько стульев, столик, вдоль стен лавки. Стены оклеены давнишними обоями. На божнице старинная икона… И ещё одно бросается в глаза: над столом приколоты на кнопки вырезанные из журналов портреты Пушкина и Есенина.
– А у нас суп из овдинцев.
– Из чего?
– Из… Из грибов солёных, из волнух. – Она поставила перед Алёшей глубокую миску, положила два ломтя аппетитно пахнущего чёрного хлеба и ложку. – Кушай! У нас груздей по тому году опять не было, вот волнухи. …А тебе чего? Молока опять? – спросила Анна у Женьки. – Вот, молоко только пьёт. Да в нём, говорят, всё есть. – Налила полный бокал. – А вечером, Алёша, приходи ужинать, будут щи со своим мясом, специально для такого случая кусок берегла.
Суп пахучий. С картошкой, с луком, с лепестками долго лежавших под гнётом грибов, с ложкой сметаны. Вкусный!
– А… а что там за камень с надписью? – вспомнил, откусывая хлеб, Алёша.
– Это вон, Женя… На камне написали кой-чего нехорошее. А у меня краска осталась старая. «Женя! – говорю. – Иди хоть замажь». А он матюги так соскрёб, и вот написал, – засмеялась она.
От её доброго смеха невольно засмеялся и Алёша. …Женька, с набитым ртом, мычал что-то, вытягивая, по привычке своей, шею и задирая голову, стукал по груди кулаком – это я!
* * *– Теперь у нас горячая пора – сенокос, – рассказывала Анна, подводя Алёшу к его отцовскому дому. – Ой! Вон видишь! – показала рукой на появляющуюся на горизонте тёмную тучу. – Опять нехорошая туча идёт. А как дождь? – повернулась она к Алёше с таким страхом в глазах, словно решалась её судьба. – Не дай бог. Может, завтра поможешь нам?
– Конечно, помогу, – легко согласился Алёша.
– Ну вот и хорошо. А то людей не хватает. У всех свои дела. А сенокос. …Вот и дом твой, раз у меня остановиться не хочешь. Я уже подтопила сегодня. Женя это так дорожку прокосил, – заторопилась она. – Ещё не умеет настояще. Видишь?! Видишь?! Мы б всё обкосили…
Алёша её не слушал, он смотрел на дом, который, как коренастый, согнувшийся под ношей мужик, был невысок, отчего казался широким. Густая трава вокруг дома дотягивается до низко установленных небольших окон. Верхний посеревший наличник крайнего окна оторвался, держится на одном, вбитом посередине гвозде. Поэтому один конец наличника приподнялся, а второй опустился – словно вздёрнутая над прищуренным глазом бровь – что, приехал?
Крыша пологая. По её потемневшему шиферу кое-где крапинки мха. Труба из красного кирпича полуразвалилась. Мелкие и крупные обломки её вытянулись полосой вплоть до широкого потока, в котором их набралось, наверно, немало.
Перед домом растёт небольшая черёмуха. Вдоль забора посажено несколько кустов цветущего ещё шиповника. Забор настолько стар, что не падает только благодаря кустам, придерживающим его своими веточками.
Дорожка к веранде в самом деле выкошена плохо, остатки срезанных стеблей стоят высоким неровным ершом, словно длинные копья где-то вдали, у горизонта, идущего невидимого войска.
В доме, хотя и топлено, чувствуется тяжёлая на вздох нежилая стылость.
В избе всё так же просто, как и у Анны. Только потолок, до которого можно достать рукой, из светло-коричневых щелистых брёвен. Русская печь стоит на деревянном основании-подрубе, обшитом доской и выкрашенном в разные цвета. С одной стороны подруба, под устьем печи, дверцы какого-то шкафика.
На божнице икона. По стене вокруг неё и дальше в стороны много старых фотографий. Среди прочих портрет молодого мужчины в форме. Фотография овальная. Она висит почти вплотную к косяку одного из окон, отчего из-под тюлевой занавески этого окна на фотографию выползла муха….У мужчины поджаты губы – можно подумать… что из-за ползающей по его лицу мухи.
– А это отец? – спросил Алёша.
– Где?.. Нее. Это дед Алексей, прадед твой, умер уж давно. Он старостой в церкви был и звонарём. Вот и иконы все от него. Я сегодня её принесла, поставила, – показала она рукой в красный угол, – а ведь оставить было нельзя, украли бы.
– Ой! – вдруг искренне огорчилась Анна, – фотографии отца твоего у нас и нету. Мама твоя после смерти Георгия все задевала куда-то. Любаша, она ведь у мамы с папой последней была, избалованная. Как живёт-то? Ведь ни столечко о ней не знаем, ничего не напишет. Я уж как обрадовалась, когда ты телеграмму дал. Слава богу, объявился.
– …Я её тоже почти год не видел, – закраснелся Алёша. – Я в другом городе живу, отдельно. Учусь.
– Аха… Ты, Алёша, как: отдыхать будешь или на кладбище пойдёшь?
Алёша помолчал немного:
– На кладбище.
– Я тогда тебе объясню всё. Я уж сама не пойду, далеко мне… Мы на кладбище в этом году почистили всё. Хорошо стало!
– Женя бы проводил, да нету уж его. Ещё дорогой улизнул. Побегун. Годы такие, ничего, придёт и его время заботное… – вздохнула. – Пойдёшь сейчас по той дороге, по которой пришёл. Только в лес с поля не заходи, а там по кромке поля (как раз перед камнем) дорожка будет. Ты иди по этой дорожке, она тоже в лес свернёт. Можно и через асфальт, кругом. Но ты иди по этой, ближе.
Ну, кладбище там увидишь. Там бор начнётся и большая дорога от асфальта придёт.
Вот здесь ограда, – начала Анна для наглядности рисовать указательным пальцем у Алёши на животе. – Здесь большая калитка. И тропинка, широкая, натоптанная. Ты иди по ней, иди, иди… – Она повела пальцем от живота вверх. – Там в стороны много маленьких дорожек отходит. Только ты по ним не сворачивай. А как дойдёшь до холма… чуть-чуть направо – и синяя большая ограда, синие кресты. У нас всё кресты… Не памятники, ничего там, а кресты. Тут все наши…
Вот оградка. – В её воображении кладбище сменилось отдельно взятыми фамильными могилами. Она нарисовала большой прямоугольник, захватив всю грудь Алёши. – Вот здесь калитка на завёртыше. Здесь, как зайдёшь, дедушка Иван, тебе прадед. Это не который в церкви работал. Он ослеп рано. Не знай от чего, а слепой был. Но сам ещё до реки спускался и через мостик переходил. Считал в уме как на счётах. А сколько сказок знал!.. Может, сам придумывал. Здесь жена его, Мария Ивановна. Она рано умерла, я её не помню. Но как дедушку приведёшь на могилку, он: «Мария Ивановна, Мария Ивановна…» За Марией Ивановной раньше столик с лавочкой был, где поминать, но места не было, и мы его убрали…
…Долго… долго стоял Алёша перед могилой отца. Небольшой холмик, на котором спелая земляника. Крест над холмиком высокий, из толстого бруса. На фотографии совсем молодой, как Алёша, парень. «Тётка говорила, другой не было». – «Учителем, значит, был, приезжий, а мать ничего не рассказывала; старше её был намного, любила его».
Наконец, когда занемели ноги, сошёл с места. Притронулся к кресту:
– Пойду я.
Снова окинул взглядом все могилы, всю, довольно большую, оградку, которая при необходимости, как и должно быть, расширялась и уже забралась немного на холм.
– Пойду.
На перекрёстке узкой лесной дороги и грунтовки в задумчивости бредущий Алёша… вздрогнул от неожиданного крика:
– Емеля! Емелюшка!..
Алёша остановился и повернулся на крик.
По грунтовке, идущей от асфальта, спешил светловолосый молодой человек. Невысокий. Худой. Казалось, что пьяная улыбка на лице его была вызвана собственной, сбивающейся то в одну, то в другую сторону, походкой. …На ногах модные светлые кроссовки, модные новенькие, но уже замаранные грязью и пылью, джинсы, которые, видимо, великоваты, так как заметно собраны ремнём на животе. Футболка с крупной нерусской надписью, тоже модная…
– Земелюшка!.. – почти проревел молодой человек и с ходу обнял Алёшу. Тот, хоть и отстранился назад, всё-таки попал в распахнутые объятия.
– Земелюшка! Как хорошо, что я встретил тебя здесь! – между тем до слёз радовался человек. – Земляк ты мой хороший! – Неожиданно, словно, что-то вспомнив, он сразу обеими руками схватил Алёшину, потряс её и представился: – Юрий!.. Юрий!.. – повторил зачем-то…
– …Алёша.
– С кладбища?! – всё не отпускал Алёшиной руки. – А я на кладбище. Батька у меня там, к батьке… – Вдруг, всмотревшись в Алёшу, снова спохватился, испуганно отдёрнул руки. – Извини… Извини меня… Извини ты меня… пожалуйста, землячок. – И, отмахиваясь руками, как… от докучливых комаров, наговаривая что-то себе под нос, в самом деле пошёл к кладбищу. Он пересёк уже плотно стоптанную, противопожарную полосу, размашисто открыл калитку и вошёл в ограду.
* * *В деревню Алёша вернулся поздно вечером. С удовольствием поужинал у Анны. В родном доме, с помощью Женьки, перетащил из горенки в избу старинную железную кровать с точёными набалдашничками на спинках. Поставили кровать почти посерёдке комнаты, так «чтобы лежать и на фотографии смотреть».
Говорят, что на новом месте засыпают плохо. Алёша, хотя перед его закрытыми глазами сплошной чередой картинок проплывало увиденное за день, а слегка опьянённое сознание, под счёт взбудораженного сердца, качалось в волнах впечатлений, заснул почти сразу.
10…Алёша вскочил на кровати!.. – кто-то стучался, колотились с такой силой, что дребезжали, боясь выпасть и разбиться, стёкла в рамах. Испуганный, в сонном ещё оцепенении, Алёша подошёл к ближайшему от красного угла окну, отдёрнул шторку… – и сразу отступил, прогнулся назад! В упор на него глядел бородатый мужик в бейсболке. В руках, кажется, на замахе, мужик держал топор, повёрнутый к Алёше обухом.
…Заметно было, что мужик хотя и вздрогнул от неожиданности, но быстро справился с испугом. Махнул Алёше свободной рукой и громко, стараясь преодолеть голосом двойные рамы, крикнул:
– Иди сюда!!!
Когда Алёша, одевшись, вышел на улицу, мужик, всё под тем же окном, сидел на суковатой серой чурке. Трава перед домом выкошена. Благодаря этому, черёмуха и кусты шиповника, обдуваемые ветром, красуются на воле, радуясь свежим воздушным струям, огибающим их стволики-ноги. Забор, освобождённый от травы, с косо стоящими, изломанными кое-где штакетинами, ещё потерял в виде, выказал все свои изъяны. Дом же, наоборот, приосанился, стал казаться выше. Перед домом растут семейкой три цветка, явно не полевых, с крупными бутонами-колокольчиками. Рядом с цветами валяется чёрный пиджак, лежит коса. Сам мужик, в белой рубахе на выпуск, в камуфлированных брюках и кирзовых сапогах, сидит и отмахивается от мошкары бейсболкой. Заметив, что Алёша осмотрелся и перевёл взгляд на него, мужик, словно всё ещё через окно, крикнул:
– Ну спать!.. А я дай, думаю, наличник на место прилажу, чтоб тебе дом глазом не подмигивал! – Он улыбнулся; накидывая на голову бейсболку, встал с чурки и протянул руку: – Емеля!
Алёша представился, пожал протянутую руку. Ладонь шершавая, с короткими, толстыми пальцами, совсем с такими же, как вырезают у современных деревянных скульптур, поставленных где-нибудь в парке отдыха.
– Готов?! – спросил Емеля.
– К чему?
– Надо отвечать: готов всегда! Сенокос у нас, парень. Уж девять часов по солнышку, а ты всё подушку давишь. Этак можно и молодость проспать. Готов?
– Готов. А куда? – Алёша растерянно-вопросительно вытянул одну руку в сторону.
– Погоди… – остановил его Емеля. – Роса только в одиннадцатом часу сойдёт, ещё у Ани поесть успеешь. – Показал на чурку: – Давай присядем.
Чурка с торца сильно избита топором, широкая, на вид неподъёмная. Хотя и не очень удобно они уместились на ней вдвоём.
Минуты две, сидя вплотную друг к другу, молчали. Наконец Емеля не выдержал:
– Дом, видишь, на несколько венцов в землю ушёл, давит на него атмосфера. Он раньше видным был. Хорошо садится всем телом, не на один угол, а то перекосило бы. Крышу между двором и домом мы перекрыли, кой-где подлатали. Ну, забор видишь каков… – Он помолчал несколько секунд. – …А черёмуху, шиповник – всё отец твой садил. Шиповник специальный, только для цветов, по книжке выписывал. Он так и называется – роза. И вон, колокола эти, – он кивнул в сторону трёх цветков, которые слегка пошевеливал ветер, – тоже выписывал и сам садил. Теперь уж три осталось. Вымерзают… Он этих цветов… столько всяких пороздал, что на десять оранжерей будет. Всё хотел, чтоб в деревне красота жила. Так и говорил: «Хочу, чтоб в моей деревне красота жила». В моей деревне! А сам сирота, детдомовец, родных никого здесь нету. В Погосте учителем работал, каждый день на велике ездил, зимой – на лыжах. Как ты родился, опять скажет: «Мои дети с первого класса начнут в школу на лыжах ходить, и станут чемпионами мира». …А цветы его и сейчас у некоторых растут. У меня и то шепеснячок каждый год зацветает.