Бабка одной рукой рот зажала, головой закрутила – нет, а другой вокруг себя какие-то круги чертит.
Семнадцать верст пытал – не допытался.
Про Багаиху всякое говорили, дескать, в молодости она ведьмой была и могла ненароком очаровать мужика, и тот потом много лет чумной ходил. Один такой, Петруша Багаев, однажды встретил Евдокию на пароме – она все время на переправах торчала, – влюбился и начал такое творить, что народ в округе, знающий с малолетства мужика-тихоню, диву давался.
– Вот провалиться мне сквозь землю, – принародно сказал Петруша, – если я на ней не женюсь!
Жену свою оставил с детьми и, можно сказать, по миру пустил – коней продал, скотину со двора свел, чтоб эту ведьму одарить всяким серебром-золотом.
– У меня, – говорит ему Евдокия, – такого добра предостаточно! Не нужны твои дешевые подарки!
Петруша на прииски подался, два года землю копал, скалы какие-то рубил и привез ей богатства всякого и нарядов во множестве. А она все равно ни в какую, не пойду, говорит, за тебя, бедный ты и нет у тебя ничего за душой. Тогда он на заработки ушел, да не плотничать, а, говорят, матросом на корабль нанялся и два года по разным морям и океанам плавал, везде побывал, даже там, где черные люди живут. Диковин всяческих навез, шелков, плодов засушенных и даже кружало-бубен медное с колокольцами, в которое дикие люди бьют и пляшут.
Евдокия только это кружало и взяла, остальное не приняла и дает ему книжицу старинную:
– Как выучишься читать и прочтешь ее, так пойду.
Петруша-то грамоту хорошо знал, но раскрыл книгу и ничего не поймет, не по-нашему писано. Еще два года бился, все невиданные знаки разгадывал и, когда разгадал да книгу прочел, совсем чудной сделался. И вот за такого Евдокия пошла замуж. В церкви обвенчались, все чин по чину, скоро у них дочка родилась, но Петруша уже совсем блаженный стал – наденет длинную рубаху, голову травой обмотает и ходит без порток, босой, хоть зимой, хоть летом. Однажды весной он прошел по всем деревням, попрощался с людьми, а его все знали, пошел в лес и, говорят, сквозь землю провалился.
Хоть и женился на Евдокии, а все равно провалился.
А она же вскоре приходскому попу голову заморочила, потом одному заезжему барину, пока ее не взяли в каталажку, не засудили и не выслали в Сибирь.
К зрелости Багаиха перестала портить мужиков, но своего колдовского ремесла не бросила, шастала по дорогам и переправам, по деревням и селам, и кто принимал ее, кто взашей гнал, но все боялись, чтоб порчу не навела. Например, за одно снадобье от чирьев иногда телку попросит, и попробуй откажи – вмиг сглазит, и все равно пропадет скотина. Или напротив, человек уж при смерти, а она над ним неделю колдует, зельем своим отпаивает, и на тебе – встал человек, засмеялся и пошел, но бабка Евдоха за это гроша не возьмет.
Никогда не угадать было, что у нее на уме.
– Ну, хоть когда рожать станет, ехать за тобой? – спросил напоследок Артемий, когда к Воскурной подъезжали. – Примешь младенца?
– Добрый ты мужик, – она соскочила с телеги и заспешила прочь. – Да не обессудь уж, Артемий, не приму!
Все трое умерших детей Артемия зачаты были в мае, после его возвращения с заработков, когда была весна, веселье, предвкушение тепла, лета и раздолья. А этот, не родившийся, – в начале зимы, когда от первых сильных морозов трещат деревья и лопается земля, еще не покрытая снегом; когда надо оставлять хозяйство, идти в чужбину, на отхожий промысел, и когда ничего не греет душу, кроме любви.
После того как Василиса отписала в Тюмень, где Артемий с артелью рубил бараки, и сообщила, что понесла, он обрадовался так, как не радовался ни одной подобной вести.
И вот стал приближаться срок. Артемий старался далеко от дома не уезжать, неделю ждал, вторую, третью и вовсе глаз с Василисы не спускал – и признаков не видать. А был конец августа, из-за знойного суховея из Тарабы травостой выдался худенький, сена Артемий убрал мало и вздумал в канун Преображения Господнего зеленый овес скосить на дальнем пожоге – иначе не прокормить двух лошадей. Запряг коня, заскочил в телегу и галопом на свой пожог. Там до полудня помахал косой, но и четверти овса не повалил: вдруг сердце екнуло – домой надо!
Верхом прискакал, забежал в избу – нет Василисы. Он на кладбище, но и у могилок пусто…
Тяжело стало, смурно на душе, побежал по соседям спрашивать. Потом всех встречных-поперечных – никто не знает, куда ушла и когда, видели, утром коров в стадо выгнала да на колодец за водой сходила.
Артемий кинулся в деревню Копылино, откуда замуж Василису брал: у ее братьев Пивоваровых нет, у тестя, который один доживал на пасеке, не была и к своей тетке Насте не забегала. Тогда он поскакал в Рощуп, где жила родная сестра Анна с мужем Алексеем Спиридоновичем, а оттуда в Силуяновку, где были сельсовет и церковь, думая, может, помолиться отправилась перед родами да причаститься, – не видели нигде Василисы.
Домой возвращался за полночь, притомленный конь шагом шел, а сам Артемий едва в седле держался – расслабился так от горя и отчаяния, хоть сам иди в Горицкий бор и ложись. Но до кладбища еще далеко было, версты четыре, пожалуй, когда вдруг услышал он стоны в бору и тут же заливистый детский крик – не почудилось! Потому как рабочий мерин под ним вдруг вскинулся, запрядал ушами и заржал, словно зверя рядом почуял.
– Васеня! Васенюшка! – крикнул Артемий и прислушался.
Ребячий крик повторился, и будто рядом с дорогой, но Горицкий бор ночной – темный, непроглядный, небо тучами заволокло. И только Артемий ногу из стремени вынул, чтоб спешиться, как конь на дыбы взвился и понес – откуда и резвость взялась!
Наездником Артемий был хорошим, с раннего детства на лошадях и в кавалерии служил, удержался бы и смирил удилами перепуганного мерина, да жалел его и обычно ездил на разнузданном – не сдержать прыти! Дорога же по бору узкая, сучья низко нависают – очнулся на земле, грудь болит, дышать тяжко. Кое-как поднялся на ноги, раздышался и не в Горицы, а назад побрел, где стоны слышал и младенческий голос.
До восхода по лесу ходил и никак места узнать не мог. Кругом одинаковый беломошный бор и увалистая, волнистая земля, как везде. Когда рассвело, стал следы конские искать. И хоть расплывчатые в текучем песке, однако же нашел: здесь мерин встал, когда первый раз крик послышался, тут задом взлягнул, а с того места понес. Весь придорожный лес слева и справа на карачках прошел, каждое пятнышко на белом мху руками пощупал – нет, сухие грибы-поганки, осиновые листья, ветром занесенные, да кора от сосен.
Капельки крови не видать…
Ладно, Артемию могло померещиться, ибо весь день ездил по лесам и мысленно ждал звуков родовых мук, но старому коню-то с какой стати вздурить? Может, неведомая ночная птица вскричала эдак? Или придавленный лисой зайчонок заверещал?..
Пришел Артемий домой черный от горя, надежда, что Василиса вернулась, в один миг развеялась, как услышал он рев необряженной скотины. А был в этот день как раз праздник Преображения, кто в Силуяновку, в храм поехал, кто своим хозяйством занят и в свое недавнее горе погружен – не заметили в Горицах, не увидели, что у Сокольниковых творится недоброе.
Кое-как Артемий подоил коров, выпустил на волю, молоко телятам вылил да рук не опустил, поскольку ощутил сильную тягу поехать и при свете дня глянуть на то место, где Василиса стонала и младенец кричал – он уж не сомневался, что так и было. Мерина в стойло поставил, а подседлал кобылу, которая с жеребенком-сеголетком ходила, и поскакал в Горицкий бор.
А бор этот во все времена считался заповедным: там лесу никогда не рубили, ягод-грибов не собирали, поскольку не росли они на сухом беломошнике, и люди туда ходили редко, по самой великой нужде. Когда переселенцев посадили на Сватье, пришли к ним старики-староверы и строго-настрого наказали, чтоб никто из пришлых не смел с топором в Горицы ходить, мол, ветку сломаете – враз беда обрушится на всех, кто живет в его окрестностях.
– Где же мы лес-то станем рубить? – спрашивают мужики. – Нам же строиться надо!
– Где хотите, но в другом месте!
– Кому-то можно рубить и даже в бору жить, а нам нельзя? – обиделись переселенцы.
– Никому не позволим!
А тогда в самом бору образовалось целое село Боровое, мужики даже церковь срубили, но эти зловредные старики, говорят, никакого житья им не дали и лет через десять выжили их из заповедного места. Правда, был слух, будто они сами ушли оттуда, забоялись чего-то, что ли? И вроде в одну ночь сбежали и далеко от этих мест – в степь Тарабу!
Когда мужики освоились на новом месте, обошли и объехали всю округу, то сами убедились, что Горицкий бор беречь следует, поскольку южная его сторона выходила к Тарабе – голой бесконечной степи с соленой водой и землей. А по степи этой что летом, что зимой ветра ходят страшные, пыльные, поэтому люди там живут узкоглазые, привыкшие от песка и снега щуриться. Не будь этого бора, словно крепостная стена стоявшего на песчаных горах, выдуло бы, просолило всю жизнь по Сватье, да и сама бы река пересохла от суховеев. Поэтому сосны здесь стояли многовековые, кряжистые, с огромными и искрученными ветром кронами. Даже в солнечный день зайдешь, а в бору темно; шепотком слово скажешь – далеко слыхать, будто в сводчатом храме. Горицами же это место называли потому, что вся земля под бором была увалистая, сажени ровного места не сыщешь, косогор на косогоре. И место это высокое, выше всех лесов: когда поднимешься на Горицкое кладбище у края бора, так все кругом видать верст на полста, даль аж голубая, дух захватывает.
Старожилы говорили, тут когда-то в древние времена пустыня была, а увалы эти – песчаные барханы, чуть оплывшие и давным-давно поросшие соснами. Если на каком склоне случайно корку мха сковырнешь, песок тут же и потечет, будто вода, и проходит год или два, прежде чем ранка эта затянется.
Ливень пройдет, дождик ли затяжной или зимний снег стает – земля на вершок промокает, не более. Копни глубже – сушь вековая!
И как только сосны здесь росли?
От переселенческой деревни Горицы до края бора, где было кладбище, считалось всего три версты, однако Артемий не заметил, как их проскочил на резвой кобылке. Поднялся на гору, спешился, взял в повод и пешком пошел, хотя до того места, где младенец кричал, далековато было, но хотел еще раз следы поглядеть. Мало ли ночью что поблазнится…
Проселок был песчаный, текучий, ноги по щиколотку утопают, словно в воде, еще много Артемий отшагал, прежде чем отыскал то место, где выбило его из седла.
Оттуда и искать начал.
Без малого два часа бродил, прошел все окрестные увалы вдоль и поперек, каждый бугорок осмотрел, где мох сорван, проверил, нет ли каких следов, на версту вглубь уходил, в глубокий сухой лог между увалами спускался и за логом весь косогор обследовал: мало ли как бывает, ночью далеко слыхать. Ни следочка, ни звука! Только белый ягель-мох под ногами скрипит, как снег замороженный. Что делать? Походил, походил еще да назад поплелся – кобыла с жеребенком за ним бредут, тоже горестные.
– Васеня? – позвал он тихо. – Васенюшка? Куда ж вы канули-то, родимые?..
А сам глаз от земли не подымает, что заалеет во мху, тотчас кидается, смотрит да щупает, да более всего красная кора сосновая попадается.
– Васеня! – закричал громче. – Коли обидел, дак прости! И вернись поскорее! Васенюшка!..
И тут ясно увидел: торчит из-под мха тряпица окровавленная, а кругом выбито, вытоптано, словно кто-то на спине валялся. Артемий пал на колени, отвернул пласт мха, а там вместе с тряпицей и детское место припрятано…
Вот где рожала! Ведь утром ходил здесь и пяти шагов не дошел!..



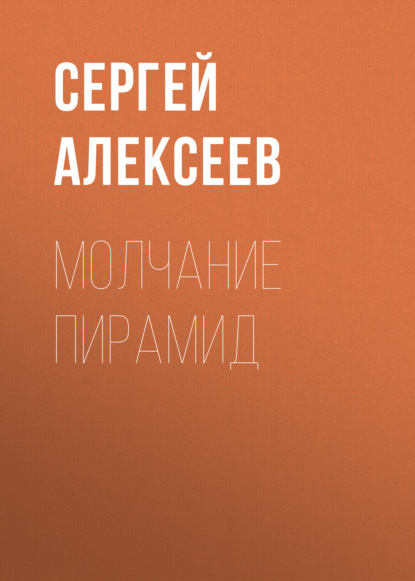




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0