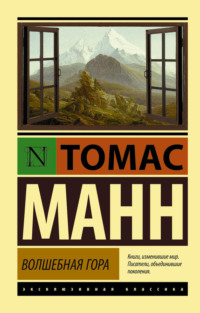
Волшебная гора
Затем дед ставил чашу обратно на тарелку и давал малышу заглянуть в ее гладкое, чуть золотящееся нутро, которое вдруг вспыхивало от света, падавшего с потолка.
– Вот уже скоро восемь лет, – говорил дед, – как мы держали тебя над нею, и вода, которой тебя крестили, стекала в нее… Кистер Лассен из церкви Cвятого Иакова лил ее в горсть нашему доброму пастору Бугенхагену, а оттуда она лилась на твой вихор и в чашу. Но мы ее перед тем подогрели, чтобы ты не испугался и не расплакался, а ты и не заплакал, наоборот – ты кричал перед тем так, что Бугенхагену нелегко было произнести свою речь, но когда на тебя полилась вода, ты вдруг затих – будем надеяться, что из уважения к святому таинству. На днях минет сорок четыре года, как крестили твоего покойного отца и с его головы в чашу стекала вода. Это происходило здесь, в доме его родителей, наверху в зале, перед средним окном; его еще крестил старик пастор Езекиил, тот самый, кого французы, когда он был юношей, чуть не расстреляли за то, что он в своих проповедях громил их за разбой и поджоги, – он тоже давным-давно на небесах. А семьдесят пять лет тому назад меня самого крестили в этой же зале, и они держали мою голову над чашей, которая стоит вот тут на тарелке, и пастор произносил те же слова, что и над тобой и над твоим отцом, и так же стекала теплая чистая вода с моих волос (тогда их было у меня на голове немногим больше, чем сейчас) в эту золотую чашу.
Ребенок поднимал глаза и смотрел на старчески сухощавую голову деда – она ведь тоже была склонена над купелью в тот далекий час, о котором он рассказывал внуку, – и в душе мальчика возникало уже не раз изведанное им ощущение какой-то дремотной и мечтательной жути, чего-то, что проходит и все же стоит на месте, что в своих изменениях пребывает неизменным, исчезает и возвращается, оставаясь головокружительно единым. Это чувство появлялось у него и раньше, его прикосновения он ждал и жаждал; отчасти ради него мальчику и хотелось, чтобы ему все вновь и вновь показывали эту неподвижно стоящую на месте и все-таки странствующую реликвию семьи.
Когда потом, уже будучи молодым человеком, Ганс Касторп думал о себе, то ему становилось ясно, что образ деда запечатлелся в его душе гораздо глубже и отчетливее и представлялся ему более значительным, чем образ родителей; причиной этого являлась, может быть, особая симпатия к деду, чувство особого сродства с ним, ибо внук и наружностью был очень похож на него – насколько розовый юнец может походить на поблекшего и окостеневшего семидесятилетнего старца. Несомненно, эти чувства вызывал и сам дед, который, бесспорно, являлся в семье наиболее характерной и красочной фигурой.
С точки зрения общественного развития время, еще задолго до кончины Ганса-Лоренца Касторпа, уже перекатилось через него и унеслось вперед. Он был глубоко верующим христианином и членом реформатской общины, строго придерживался старых традиций, с трудом шел на какие-либо новшества и так упрямо отстаивал необходимость ограничить аристократией круги, способные управлять государством, как будто жил в четырнадцатом веке, когда ремесленники в упорной борьбе с исконным вольным патрициатом начали завоевывать себе места и голоса в городской думе. Его деятельность совпала с десятилетиями бурного подъема и многообразных переворотов, с десятилетиями стремительного прогресса, шествовавшего форсированным маршем и неизменно требовавшего от общества высокой жертвенности и дерзаний. Но его, старика Касторпа, видит Бог, отнюдь не радовали те прославленные и блистательные победы, которые одерживал дух новой эпохи. Обычаи отцов и старинные учреждения он ставил гораздо выше, чем все эти рискованные попытки расширить гавани или другие безбожные причуды больших городов; поэтому он тормозил и угашал все новое, где только мог, и будь его воля – в управлении страной и поныне царила бы та же допотопная идилличность, которой отличалась его собственная контора.
Таким представлялся бюргерам старик Касторп и при жизни, и после смерти; пусть маленький Ганс Касторп ничего не смыслил в государственных делах, но у него, наблюдавшего характер деда с чисто детской тихой созерцательностью, складывались в основном те же впечатления – без слов, а потому и без критики; это были скорее непосредственные живые восприятия, и когда они позднее возникали уже как осознанные воспоминания, они оставались столь же невыразимыми в словах и неподдающимися анализу, но полными прежней жизнеутверждающей силы. Как уже было сказано, здесь играло немалую роль то глубокое сродство, та симпатия и связь между дедом и внуком, которые соединяли их, минуя звено одного поколения, что случается в семьях нередко. Дети и внуки взирают на отцов и дедов, чтобы восхищаться ими, а, восхищаясь, учатся у них и развивают в себе заложенное в них отцами и дедами наследие.
Сенатор Касторп был тощ и долговяз. Годы взяли свое – его спина и шея согнулись, но, не желая выдавать этой согбенности, он упорно выпрямлял свой стан, а уголки губ, уже лежавших не на зубах, а на обнаженных деснах (старик пользовался искусственной челюстью лишь во время еды), он старался с достоинством держать опущенными; желая также скрыть, что голова у него начала трястись, он принимал гордую осанку и опирался подбородком на воротничок – привычка, особенно пленявшая маленького Ганса Касторпа.
Дед любил нюхать табак, он хранил его в продолговатой черепаховой табакерке с золотыми инкрустациями и из-за этой склонности употреблял только красные носовые платки, причем кончик обычно вывисал из заднего кармана его сюртука; хотя эта привычка и казалась несколько смешной при столь достойном внешнем облике, однако ее легко можно было извинить преклонным возрастом – либо как одну из тех вольностей, которую старость разрешает себе сознательно, из чудачества, либо как одну из тех слабостей, которые появляются у глубоких стариков, но ими не осознаются. Во всяком случае Ганс Касторп своим по-детски зорким взглядом подметил за дедом эту единственную слабость. И семилетнему мальчику и, позднее, взрослому человеку, когда он обращался к своим воспоминаниям, казалось, что будничный облик деда – это еще не его истинная, подлинная сущность. В истинной действительности он выглядит иначе, прекраснее и ближе к своему подлинному облику – как на своем портрете во весь рост, висевшем раньше в столовой родителей, а теперь перекочевавшем вместе с маленьким Гансом Касторпом в дом на Эспланаде, где его водрузили в гостиной над широким диваном, обитым красным шелком.
Художник изобразил Ганса-Лоренца Касторпа в одежде члена магистрата; это была строгая, почти ритуальная одежда прошлого столетия, – она сохранила на века дух тогдашней городской общины, важный и вместе предприимчивый, – и надевалась в самых торжественных случаях, как бы для того, чтобы церемониально претворять прошлое в настоящее и настоящее – в прошлое, тем самым подтверждая неизменную связь всех вещей и добротную надежность почтенной купеческой подписи.
Сенатор Касторп стоял во весь рост на полу из красноватых плит, фоном служили готические арки и колонны. Он стоял, опустив подбородок и углы рта, устремив вдаль задумчивый взгляд голубых глаз с отеками под ними, в черном, ниже колен, одеянии, похожем на мантию, открытом спереди и обшитом широкой меховой каймою. Из широких с буфами верхних отороченных мехом рукавов выступали более узкие нижние, из простого сукна; кружевные манжеты закрывали руки до середины пальцев. На стройных старческих ногах были черные шелковые чулки и башмаки с серебряными пряжками, шею охватывали крахмальные, широкие и пышные брыжи, спереди они были плоские, по бокам стояли вверх, а из-под них на жилет спускалось еще плоеное батистовое жабо. Под мышкой сенатор держал старомодную шляпу с полями и суживающейся кверху тульей.
Портрет, написанный известным художником, был превосходен, выдержан в манере старинных мастеров, очень подходившей к данному сюжету и будившей в зрителе воспоминания об испано-нидерландском позднем средневековье. Маленький Ганс Касторп частенько разглядывал эту картину. Он, конечно, не понимал мастерства живописца, но какое-то более общее и глубокое понимание у него возникало; и хотя он видел деда таким, как на холсте, всего один раз, в минуту его торжественного въезда в ратушу, да и то лишь мельком, все же, как мы уже отмечали, дед на картине казался мальчику подлинным и настоящим, а дед в жизни – образом будничным и временным, вспомогательным и весьма несовершенным.
Он потому и находил что-то необычное и волшебное в будничном деде, ибо хоть и неумело, но сопоставлял эти два образа, сравнивал их и видел в будничном тайные и полустертые черты подлинного: пусть этот стоячий воротничок и белый широкий галстук старомодны, но можно ли было назвать старомодной самую восхитительную часть его одежды, а именно – испанские брыжи, по отношению к которым и галстук и воротничок явно служили только переходом? То же относилось и к старинному цилиндру, который дед носил на улице; в более высокой действительности ему соответствовала фетровая шляпа на портрете. Прообразом же длинного и широкого сюртука маленькому Гансу Касторпу представлялась отороченная мехом мантия.
Поэтому, когда его однажды позвали, чтобы проститься с мертвым дедом, он сказал себе, что вот теперь дед покоится во всей полноте и законченности своего настоящего, совершенного облика. Это было в зале, в той самой зале, где они так часто сиживали друг против друга за обеденным столом. Теперь посередине стояли погребальные носилки, заваленные венками, и на них в гробу, обитом серебряным глазетом, лежал дед. Он боролся с воспалением легких долго и упорно, хотя, казалось, был лишь гостем в современной жизни и еще только примерялся к ней; и вот он уже покоился на парадном смертном ложе, и даже не скажешь: как победитель или как побежденный, во всяком случае лицо его выражало строгую умиротворенность, от борьбы с болезнью черты осунулись, нос заострился; тело было до половины накрыто одеялом, на котором зеленела пальмовая ветвь, голова была высоко поднята на подушках, так что подбородок особенно твердо упирался в брыжи; а в руки, полуприкрытые длинным кружевом манжет, – хотя пальцам искусно придали естественный вид, от них веяло неприкрытым холодом и безжизненностью, – в руки деда всунули распятие из слоновой кости, на которое сенатор, казалось, смотрел из-под опущенных век не отрываясь.
Ганс Касторп в начале последней болезни деда не раз заходил к нему в комнату, но когда дело приблизилось к развязке, уже там не бывал. Ребенка щадили и не хотели, чтобы он видел борьбу умирающего с болезнью, хотя эта борьба обострялась главным образом по ночам; поэтому он мог лишь догадываться о чем-то по удрученным лицам домочадцев, по заплаканным глазам старого Фите и постоянным приходам и уходам врачей; но событие, перед лицом которого он оказался, войдя в залу, мальчик понял так, что дед наконец торжественно освободился от своего промежуточного облика и обрел подлинный и окончательный, а это можно было только приветствовать, хотя старик Фите и плакал, непрерывно тряся головой, да плакал и сам Ганс Касторп, так же как он плакал, глядя на свою столь недавно умершую мать, а потом на отца, который тоже лежал перед ним неподвижный и чужой.
Ибо смерть оказывала свое действие на душу и на умонастроение, особенно на умонастроение, маленького Ганса Касторпа уже в третий раз и притом – в столь юные годы. Поэтому для него не были новостью ни само зрелище смерти, ни впечатления от него, а, напротив, они были очень знакомы; и, невзирая на естественное огорчение, он, так же как и в первые два раза, и даже в большей степени, держался спокойно и рассудительно, без всякой слезливости. Еще не понимая практических последствий, которые эти события имели для его собственной жизни, и с беспечностью ребенка уверенный в том, что люди все-таки о нем позаботятся, мальчик, стоя у гроба близких, даже выказывал какое-то, тоже детское, равнодушие и озабоченную деловитость; и так как это происходило уже в третий раз и он чувствовал себя многоопытным, в нем сквозила преждевременная серьезность, хотя на этот раз он и плакал чаще от потрясения и легче заражался горем других, что было вполне естественно. Через три-четыре месяца после кончины отца он забыл о смерти; теперь он снова вспомнил о ней, и повторились тогдашние впечатления – совершенно те же и в те же минуты; но они заслоняли прошлые своим несравнимым своеобразием.
Если бы их проанализировать и заключить в слова, то эти впечатления можно было бы примерно выразить так. Со смертью для него соединялось благоговейное чувство чего-то глубокого, скорбного и прекрасного, то есть духовного, и вместе с тем ощущение чего-то совершенно противоположного, очень материального, очень плотского, о чем никак не скажешь, что оно прекрасно, глубоко, вызывает благоговение или хотя бы скорбь. Торжественно-духовное было выражено в пышном убранстве тела, в роскошных цветах, в пучках пальмовых ветвей, как известно символизирующих мир божественный, и еще яснее в распятии, лежавшем между мертвых пальцев того, кто был когда-то его дедом, в благословляющем Спасителе Торвальдсена, поставленном в головах покойника, и в канделябрах, которые высились по обе стороны гроба и сейчас тоже выглядели как-то по-церковному. Более точный и утешительный смысл всех этих предметов состоял, очевидно, в том, что дед окончательно возвратился к своему подлинному и истинному облику. Но, кроме того, все они, как заметил маленький Ганс Касторп, хотя не хотел в этом признаться, – особенно груды цветов и, главное, туберозы, которых было больше всего, – имели и другой смысл, другую, более практическую цель, а именно: приукрасить, заглушить или не допустить до сознания мысль о том другом, что таила в себе смерть и что не было ни прекрасным, ни даже скорбным, а скорее чем-то почти непристойным, низменно те лесным.
Вероятно, из-за этого мертвый дед казался совсем чужим, и вовсе даже не дедом, а восковой куклой в натуральную величину, которую смерть подсунула вместо него; над ней и совершалась вся эта благоговейная и почетная церемония. Значит, тот, кто лежал перед ним, вернеето, что лежало перед ним, уже не было самим дедом, а лишь его оболочкой, и она – Ганс Касторп понимал это – состояла не из воска, а из особой материи, только из материи: отсюда – ее непристойность и почти полное отсутствие скорбности, ибо ее нет ни в чем, что связано с плотью и только с нею. И маленький Ганс Касторп рассматривал желтую, как воск, бледную и твердую материю, из которой состояла эта мертвая кукла в рост человека, рассматривал лицо и руки бывшего деда. Вот на его неподвижный лоб села муха и начала поднимать и опускать хоботок. Старый Фите осторожно согнал ее, стараясь при этом не коснуться лба, причем его лицо почтительно омрачилось, словно он не хотел, да и не должен был знать о том, что делает его рука; это выражение добродетельной строгости, видимо, относилось к тому, что дед был теперь только плотью и больше – ничем. Но муха, поднявшись в воздух и полетав, тут же снова опустилась на палец деда, неподалеку от распятия из слоновой кости. И в то время как это происходило, Гансу Касторпу почудилось, что он еще явственнее ощутил уже знакомый, легкий, но удивительно упорный запах, и этот запах пробудил в нем стыдное воспоминание об одном однокласснике, страдавшем неприятным для других недугом, почему все его сторонились; аромат поставленных совсем близко тубероз, видимо, должен был заглушить навязчивый запах, однако, несмотря на их пышность и строгость, это им не удавалось.
Мальчик несколько раз стоял у гроба: в первый раз – вдвоем со старым Фите, во второй – вместе с двоюродным дедом Тинапелем, виноторговцем, и обоими дядями – Джемсом и Петером, и потом еще в третий раз, когда у открытого гроба собралась на несколько минут группа по-праздничному одетых портовых рабочих, чтобы проститься с бывшим главою торговой фирмы «Касторп и сын». Затем состоялись похороны, зал был переполнен, и пастор Бугенхаген из церкви Cв. Михаила, – он же крестил Ганса Касторпа, – облачившись в испанские брыжи, произнес надгробное слово, а затем, следуя в дрожках непосредственно за катафалком, за которым тянулся длиннейший хвост экипажей, беседовал с маленьким Гансом Касторпом. Потом кончился и этот отрезок жизни, и мальчик тут же попал в другой дом и другую обстановку – уже во второй раз за свою молодую жизнь.
Жизнь у Тинапелей и душевное состояние Ганса Касторпа
Вреда от этого никакого не произошло: мальчика взял к себе его опекун, консул Тинапель, и Гансу Касторпу не пришлось жалеть об этом, ни в отношении себя самого – это-то уж бесспорно, – ни в отношении его интересов, хотя о них он тогда еще не думал. Консул Тинапель, дядя покойной матери мальчика, стал управлять тем, что осталось после Касторпов, продал недвижимость, взял на себя ликвидацию фирмы «Касторп и сын, импорт и экспорт» и в результате выколотил из всех этих операций около четырехсот тысяч марок, что и составило наследство Ганса Касторпа; на эти деньги консул приобрел устойчивые бумаги, причем, ничуть не оскорбляя своих родственных чувств, в начале каждого квартала регулярно оставлял себе из поступавших процентов с этих бумаг два процента комиссионных.
Дом Тинапелей стоял в глубине большого сада, у Гарвестехудской дороги, и выходил на лужайку, где не разрешалось произрастать ни одной сорной травинке, на городской питомник роз и на реку.
Каждое утро консул отправлялся в свою контору, находившуюся в старом городе; хотя у него был отличный выезд, он совершал весь путь пешком, для моциона, ибо страдал приливами крови к голове, и в пять часов пополудни возвращался, тоже пешком, домой, после чего Тинапели в высшей степени культурно обедали. У консула Тинапеля были водянисто-голубые глаза навыкате и нос, покрытый сетью багровых жилок, на котором сидели золотые очки; человек он был солидный, одевался в лучшее английское сукно, носил седую шкиперскую бороду, а на отекшем мизинце левой руки перстень с крупным бриллиантом. Жена его давно умерла. У него было два сына – Петер и Джемс, один поступил во флот и редко приезжал домой, другой служил в виноторговле отца и должен был стать наследником фирмы. Хозяйство уже много лет вела некая Шаллейн, дочь золотых дел мастера из Альтоны; вокруг ее пухлых запястий неизменно белели накрахмаленные рюши, и она усердно заботилась о том, чтобы на завтрак и ужин подавалось как можно больше холодных блюд – крабов и лососины, угрей, гусиной грудинки и ростбифа с томатным соусом; она бдительно надзирала за наемными лакеями, когда у консула Тинапеля бывал званый обед без дам, и она же по мере сил старалась заменить маленькому Гансу Касторпу мать.
Ганс Касторп рос в ужасном климате, с ветрами и туманами, рос, если можно так выразиться, не снимая желтого резинового плаща, и чувствовал себя при этом очень хорошо. Правда, легкое малокровие у него наблюдалось уже с раннего детства, это говорил и доктор Хейдекинд и настаивал на том, чтобы за третьим завтраком, после школы, мальчику непременно давали добрый стакан портера – как известно, напитка весьма питательного; кроме того, доктор Хейдекинд приписывал ему кровообразующие свойства; во всяком случае, портер усмирял буйных духов жизни, просыпавшихся в теле Ганса Касторпа, и успешно содействовал его склонности «клевать носом», как выражался дядя Тинапель, говоря попросту – сидеть распустив губы и грезить наяву. Но, в общем, он был здоров и ловок, хорошо играл в теннис и греб, хотя, говоря по правде, предпочитал, вместо того чтобы самому налегать на весла, сидеть на уленхорстской пристани, потягивать хорошее вино и слушать музыку, созерцая освещенные лодки, между которыми, среди пестрых отражений, плавно скользили лебеди; и достаточно было послушать, как он чуть глуховатым, ровным голосом рассуждает обо всем спокойно и разумно с легким нижненемецким акцентом, достаточно было взглянуть на этого корректного блондина с тонко очерченным лицом, чем-то напоминавшим старинные портреты, и наследственным бессознательным высокомерием, которое сказывалось в некоторой суховатости и ленивой медлительности, – и никто не усомнился бы, что Ганс Касторп является крепким и подлинным порождением этой почвы, что он тут как нельзя более к месту; да и сам он, задай себе Ганс Касторп такой вопрос, ни на минуту в том не усомнился бы.
Ведь этой атмосферой большого приморского города, влажной, насыщенной запахами мировой торговли и сытой жизни, – этим воздухом дышали его отцы и деды, дышал им и он в полном единодушии с предками, спокойно и уверенно, считая, что иначе и быть не может. Он привык к испарениям воды, угля, смолы, к пряным ароматам разнообразнейших колониальных товаров, он видел, как в гавани огромные подъемные краны неторопливо, умно и с чудовищной мощью, словно подражая рабочим слонам, извлекают тонны грузов – мешки, тюки и ящики, бочки и баллоны – из чрева стоящих на якоре морских судов и переносят их в товарные вагоны и на склады. Он видел коммерсантов в желтых резиновых плащах, – такой же носил и он, – спешивших в полдень на биржу, где, как он знал, началась очередная горячка, и кто-нибудь из них мог легко быть поставлен в необходимость, чтобы поддержать свои кредиты, спешно разослать приглашения на званый обед. Он наблюдал (впоследствии его интересы были связаны именно с этой областью) суету на верфях, мамонтовые туши поставленных в доки судов, ходивших в Азию и Африку, высоких, словно башни, с обнаженными винтами и килями, подпертых гигантскими сваями; чудовищно беспомощные на суше, они были осыпаны армиями казавшихся карликами рабочих, которые стругали, забивали гвозди, красили; под навесом эллингов, окутанных клубами тумана, высились остовы будущих кораблей, а инженеры, держа в руках конструкционные чертежи и таблицы Ленца, давали указания строителям. Все это были картины, знакомые Гансу Касторпу с детства, они вызывали в нем лишь ощущение чего-то привычного и родного, частью чего был он сам; причем ощущения эти достигали особенной силы, когда он с Джемсом Тинапелем или двоюродным братом Цимсеном, Иоахимом Цимсеном, посиживал воскресным утром в Альстерском павильоне, завтракая копченым мясом с булкой и стаканом старого портвейна, а затем, откинувшись на спинку стула, с упоением затягивался сигарой. Ибо его натура в том и сказывалась, что он любил хорошую жизнь и, невзирая на свою малокровную и утонченную наружность, жаждал, как ненасытный малыш груди матери, грубых и сочных радостей существования.
Легко и не без достоинства носил он бремя высокой цивилизации, которую господствующая верхушка местного демократического купечества передавала своим детям по наследству. Он был всегда опрятен, как только что вымытый младенец, и одевался лишь у того портного, который был признан молодыми людьми его круга. Небольшой, но тщательно помеченный инициалами запас белья, хранившийся в отделениях его английского шкафа, находился под неусыпным наблюдением Шаллейн; когда Ганс Касторп еще был студентом, он регулярно отправлял домой белье для стирки и починки (ибо твердо был убежден, что прилично умеют гладить только в Гамбурге), и если манжета одной из его нарядных шелковых рубашек оказывалась потертой, это могло искренне его расстроить. Руки у него были холеные, с нежной и свежей кожей, хотя по своей форме и не отличались особой аристократичностью; он носил платиновый браслет в виде цепочки и родовой дедовский перстень с печаткой; зубы у него были слабые, часто болели, и во рту кое-где поблескивали золотые пломбы.
Стоя и на ходу он слегка выставлял вперед нижнюю часть тела, почему и казался не очень стройным; но за столом держался безукоризненно. Если же он болтал с соседом (рассудительно и с легким нижненемецким акцентом), то, не сгибаясь, слегка повертывался к нему корпусом и чуть касался локтями стола, когда разнимал птицу или особым ножом и вилочкой искусно извлекал розовое мясо из клешни омара. Окончив трапезу, он прежде всего испытывал потребность ополоснуть пальцы в мисочке с душистой водой, затем в русской папиросе, не оплаченной пошлиной и купленной с рук в порядке безобидной контрабанды. За папиросой обычно следовала сигара весьма приятной бременской марки «Мария Манчини», о которой еще будет речь впереди и чей ядовито-пряный вкус действовал так успокоительно, смешиваясь с вкусом кофе. Желая уберечь свои запасы табачных изделий от вредного воздействия парового отопления, Ганс Касторп хранил их в погребе, куда и спускался каждое утро, чтобы положить в портсигар дневную порцию курева. И он бы с явным неудовольствием стал есть масло, поданное куском, а не в виде рифленых шариков.
Читатель видит, что мы стараемся вспомнить все, говорящее в пользу Ганса Касторпа, но в своих оценках не хватили через край и показываем его не лучше и не хуже, чем он есть на самом деле. Ганс Касторп не гений и не дурак, и если мы избегаем называть его «посредственностью», то по причине, не имеющей никакого отношения к его уму и весьма мало – к его скромной особе; мы делаем это из уважения к его судьбе, которой склонны придавать сверхличное значение. Мыслительных способностей Ганса Касторпа вполне хватало, чтобы удовлетворять требованиям реальной гимназии, притом без особых усилий, да и никакие обстоятельства, никакая предстоящая ему задача не принудили бы его к чрезмерным усилиям: не столько потому, что он боялся повредить себе, сколько оттого, что он не видел никаких причин для такого перенапряжения, вернее –бесспорных причин; и, может быть, мы потому и не назвали бы его посредственностью, что он каким-то образом ощущал отсутствие этих причин.