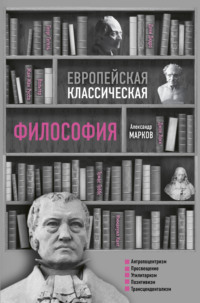
Европейская классическая философия
Но как быть с тем, что, скажем, человек состоит из тела и души? Душа включает в себя и ум, и разум с чувствами, и волю, а тело растет, меняется, умирает. А все очень просто: они не только «связаны» друг с другом, так что только смерть их разлучает, но они находятся в отношении друг с другом, и главное в них – не как им быть, а как им относиться друг к другу. Душа придает телу форму, и когда душа покидает тело, оно утрачивает свою форму, разлагается. И тело оказывается подспорьем души, она чувствует с помощью тела, пользуется телом, и тело позволяет душе жить среди вещей и существовать полноценной жизнью.
Получается, что если душа и тело находятся в некоторых отношениях, то отношения между вещами, не так связанными, определяются уже их принадлежностью к определенной понятийной категории, их интеллектуальным содержанием, способностью вынести о них категориальное суждение: это сотворено, это отдельно, а это бывает. Такое представление о наличии кроме категорий как логического инструмента упорядочивания еще и категориальных суждений (предикабилий), связывающих вещи как способные находиться в какой-то связи, было утрачено в новой философии. Поэтому приходилось вводить разного рода замены: всеобщие законы природы, как это сделал Ньютон; непосредственную волю Бога; чтобы вещи были такими, а не другими, вели себя именно так, а не иначе, как Беркли и Мальбранш; достаточное основание существования, как Лейбниц; «трансцендентальный синтез апперцепции» (восприятие всех вещей связанными как способных себя связать в том числе в нашем понимании), как Кант.
Такой поворот в философии сказался и в науке, когда эксперимент стал главным способом придать суждениям общеобязательность, показать, что они действительно работают и в искусстве, где стала цениться творческая индивидуальность, а не решение задач внутри готового канона. Меняется сам стиль философской работы: из философии нового времени уходит комментарий как постоянное уточнение собственной позиции, напротив, любая философская позиция должна держаться на собственных основаниях и быть изложена в ярком и убедительном выступлении. Если философ нового времени и пишет примечания, как Гегель, то только благодаря индивидуальной склонности воспроизводить интеллектуальные обычаи прежних эпох, а не в силу профессиональных требований к философу.
На первый взгляд при переходе от средневековой к новой философии мало что меняется: для старой мысли нормативно различение между умопостигаемыми и чувственными вещами, но и Кант различает умственное (ноумен) и чувственное (феномен). Мы и в нашей бытовой речи никогда не спутаем умственное построение и ход событий в окружающем мире. Но для средневековой мысли умственное – высшая реальность, это те вещи, которые любезны уму, любимы им и пробуждают любовь. Даже если это этически дурные вещи, как падшие ангелы или страсти, все равно только любовь может оценить их безобразие.
А у Канта умопостигаемой может быть любая вещь, раз она является предметом не только использования, но и созерцания, опознания ее в качестве вещи. Кант ее так и называет – «вещь в себе», или правильнее было бы перевести «вещь сама по себе», «вещь как она и есть». Никакого ценностного преимущества небесных вещей над земными у него нет. Там, где средневековая мысль говорила о восхождении к высшим сущностям, новая мысль говорит о самих условиях, при которых мы можем познать какие-либо сущности. После Канта философы могли уже спорить, дает ли, например, искусство или правильная формулировка доступ к реальности как таковой, или мы можем располагать только теми данными разума в отношении реальности, которые у нас заведомо есть, но уже нельзя было просто говорить, что высшая реальность настолько ценна, что она становится привлекательна для нас и влечет к себе и возвышает. Можно было такое утверждать, но при одном предварительном условии, что мы полностью разобрались с возможностями и ограничениями нашего познания.
Иначе в новой философии понимается истина: не как достояние реальности и ума одновременно, но как такое отношение к вещам или такое суждение, которое не окажется опровергнутым при дальнейшем развитии этого отношения или раскрытии этого суждения на последующих примерах. Истина старой философии состояла в созерцании, а новой философии – в непротиворечивости самих условий созерцания.
Сразу уточним, что слово «созерцание» в философии никогда не означает просто любопытство или ленивое наблюдение. Напротив, созерцание – напряженное интеллектуальное переживание, позволяющее видеть действия и сами условия этих действий. Только созерцание в старой философии – это созерцание прежде всего действия, происходящего в области вещей разных видов, что с ними может еще произойти, тогда как в новой философии созерцание – исследование самих возможностей вещей стать предметом созерцания.
Средневековую философию иногда называют служанкой теологии, что верно только в одном смысле: теология, она же богословие, понималась не как формулировка готового церковного учения, но как возможность средствами разума созерцать те вещи, которые для философии проблема, а для теологии – непосредственный опыт, такие как милость Божия. Тогда философия созерцала, а теология переходила от созерцания к самому предмету созерцания.
Слово «теология» появляется во времена Платона и означает рациональное учение о богах в противовес мифологии, состоящей из противоречащих друг другу сказаний, отличающихся от одной области к другой и потому не поддающихся непротиворечивой систематизации. Как языческая, так и христианская теология – точная наука, как и математика, она исходит из аксиом (догматов) и на их основании строит теоремы (богословские рассуждения).
Языческая теология была по преимуществу катафатической, выводившей порядок богов из их свойств. Христианство, как и вообще монотеистическое богословие, не могло довольствоваться только катафатикой, одними положительными утверждениями о свойствах Бога, ведь тогда получилось бы, что Бог может быть сведен к отдельным свойствам, каждое из которых принадлежит порядку сотворенного им мира, а значит, не может передать всемогущество Творца. Так появилась апофатическая теология, задача которой – сказать, чем Бог не может быть. Если мы говорим «Бог вечен», то это еще катафатическая теология, мы приписываем Богу какое-то свойство, которое как-то сами постигаем и классифицируем, и значит, чтобы наше высказывание было достаточно почтительно к Богу, мы должны понимать, что мы работаем с некоторыми знаками, и знак «вечность» помогает лучше постичь Бога как еще и всемогущего создателя, а не только вечно существующего. Тогда как если мы скажем «Бог выше всякой вечности и всякого времени», мы окажемся уже в апофатической теологии, отрицающей любые готовые знаки и постигающей Бога с помощью символов и образов, которые отрицаются. Вечность и время оказываются двумя сторонами одного поэтического образа, но от обеих сторон надо отказаться, чтобы непосредственно созерцать Бога. Приведем обоснование катафатической и апофатической теологии неоплатоническим христианским философом, последователем Прокла, выдававшим себя за ученика апостола Павла Дионисием Ареопагитом:
«Помолимся, чтобы мы из над-бытия пропели гимн Тому, кто над бытием, вычитая любое бытие: как творящие талантливую статую, вычитают всё прибавочное как препятствие к чистому рассмотрению сокровенного. Только при таком вычитании сокровенная красота начинает себя показывать.
Нужно, думаю, такие отрицания воспеть за счет утверждений. Когда мы утверждаем, мы начинаем с первичного и через среднее доходим до окончательного, до самого низа. А когда мы отрицаем, мы идем от самого низа к первичным началам, чтобы постичь то неведение, которое скрыто во всяком бытии за известным всем, – и тем самым постичь тот мрак над всяким бытием, который скрыт от нас светом, лежащим на всякой вещи бытия.
(…) Почему, спросишь ты, утверждения о Боге мы начинаем с первичного, а отрицания о Боге – с самого последнего? Потому что утвердительное положение убедительно начнется ближе всего к превосходящему всякое возможное утверждение. А отрицание чего-либо в превосходящем всякое отрицание убедительнее всего начнется с отрицаний самого далекого. Разве Бог не в более величественном смысле жизнь и добро, чем он воздух и камень? И разве не лучше начать с того, что Бог не пьянеет и не сердится, чем что не говорит и не мыслит?
Вообще не для нее [Причины – это слово выступает как имя Божества] утверждение или отрицание; и если мы творим ей утверждения и отрицания, мы ничего не прибавляем и не отнимаем – потому что она выше всякого утверждения, как совершенно неповторимая причина для всего, но и выше всякого отрицания, как превосходящая своей отрешенностью совершенно всё, запредельная всему».
Греческое слово «ересь», латинское «секта» означало в античности философскую школу или вообще публику, толпу приверженцев, а главное, людей, ведущих сходный образ жизни. Утверждение христианского правоверия против «ересей» имело в виду прежде всего последнее значение: в сравнении с требованиями правоверия эти образы жизни, даже при всей добродетельности, казались очень частными, как будто не имеющими будущего. Разумеется, в книге по философии нет места обсуждению церковной политике. Но когда Фома Аквинский порицал учение Аверроэса (Ибн-Рушда) как ересь, хотя Ибн-Рушд никогда к христианству не принадлежал, имелась в виду подмена общего частным: для Фомы учение о «двух истинах», о том, что логика богословия отличается от логики естественных наук, означало, что любое знание замыкается в частности своих положений.
Философия во многом определила книжную культуру Запада. В античности тиражировать книги было нетрудно: достаточно было посадить рядом сто грамотных рабов, и под диктовку они писали сто экземпляров. В средние века книга писалась для употребления в монастыре, светской корпорации, объединенной вокруг своего церковного здания, а позднее в университетской корпорации. Тогда каждая книга была уникальна, как уникально любое монастырское и вообще церковное имущество. Тираж такой книге был не нужен, но нужны были философские традиции вдумчивого чтения, обсуждения, комментирования.
Первый кризис эта система испытала в эпоху Возрождения. Новая культура передвижения по миру потребовала карманных книг, библиотеку стало возможно возить с собой. Значит, книга перестала быть принадлежностью корпорации, неотделимой от традиций ее бытия, а становится предметом индивидуального пользования. Навстречу легконогим итальянцам идут германцы, изобретшие книгопечатание: хотя первые печатные книги мало чем отличались от рукописных по размерам и оформлению, само тиражирование книг означало, что книга может появиться где угодно, что создание книги уже не ремесленное, а интеллектуальное действие, импровизация, а не наследование готовым традициям чтения. Уже здесь появляется такая особенность новой философии, как понимание мышления не только как системы созерцания, но и как системы действенных импровизаций.
Первым признаком возникновения новой философии стало расширение круга авторитетных книг. Для деятелей Ренессанса Марсилио Фичино или Пико делла Мирандола Платон или древнеегипетская мудрость были не менее авторитетны, чем библейская. Появляется понятие «первоначальное богословие» – простых утверждений о Боге, которые объединяют все религии и оказываются первой общей мудростью человечества. Учение о первоначальном богословии позволяло примирить противоречия между авторитетными книгами, заявив, что любая книга важна как самостоятельное толкование этого первичного богословия, и преимущество Библии – только в том, что она оказывается не только предметом, но и инструментом толкования.
Точно так же Ренессанс понял и античное литературное наследие: оно было важно и как инструмент, позволяющий оценить неурядицы современной политики, и как предмет, вокруг которого можно выстроить другие предметы, в амбициозном проекте сделать современность величественной. Как и в идее первоначального богословия, так и в идее восстановления классической литературы прежнее средневековое соответствие всех вещей, когда любая вещь может оказаться знамением исторических событий, корни которых в библейском назывании вещей, оказывается заменено непреодолимым различением подлинного и неподлинного. Подлинное – это древнее, так как оно переживает собственный опыт как существенный, тогда как домыслы, догадки, сопоставления чаще затемняют дело, чем проясняют его.
В старой средневековой философии понятие о языке было только как о физиологической способности, так же отличающейся у разных народов, как особенности телесной пластики или кулинарные привычки. Ведь все вещи в мире указывали друг на друга, как часть библейского мира, оказавшаяся прямо здесь, и в этом смысле и создавали язык для понимания Библии, а через Библию – происходящего вокруг. Как только появляется современность, появляется и язык, то есть способность произвести смысл прямо здесь и сейчас, из подручных материалов, не привлекая все вещи, которые копились предшествующие века.
Слово «современность» (modernitas и его производные в разных европейских языках) появляется сначала просто как указание на авторов того времени в противоположность античным. Но если говорить совсем просто, современность – это время, когда факт имеет свою структуру, независимо от того, какое положение он занял в отношении библейской истории или мировой истории. Современность – это необходимость принять факты как таковые, не видя в них лишь знаки того, что повторяется или что закономерно наступило, в том числе принять факты как нечто совершенно уникальное и неожиданное. Даже если приверженцы «первоначального богословия» истолковывали древние тексты как символические, все равно они подражали этим текстам как совершенным, воспроизводя их, подражая им, подражая древним богословам так же, как древним ораторам. Именно поэтому ренессансная мистика полюбила поэзию: ведь поэзию в средние века привыкли толковать иносказательно, а теперь иносказания можно было превратить в доказательство сродства этих поэтических текстов с богословскими текстами, и использовать и те, и другие для совершенного истолкования отдельных фактов.
Конечно, тогдашние философы вполне понимали, что любой текст создается в определенное время и в определенном месте. Но само это время и место было лишь рамкой для факта, который нужно было толковать во всей его убедительности, чтобы и современная история стала убедительной. Этот проект был вполне эффектен, пока все искусства были объединены в каком-то едином зрелище. Но уже для Леонардо да Винчи языки разных искусств становятся непереводимыми. В его «Споре между поэтом, живописцем и скульптором» ни один из участников не может сказать все и сразу: живописец может показать вещь целиком, но не в движении, а поэт может показать вещь в движении, но его описание идет от одной детали к другой и никогда не схватывает целого. Преимущество живописи оказывается в том, что она может представить множество вещей единомоментно, и отсюда уже путь к философии Декарта, понимающей познание как мгновенное схватывание очевидности в качестве наиболее убедительной картины вещей, чему соответствует открытие прямой (геометрической, воздушной) перспективы в живописи и военном деле. Перспектива позволяет уже не столько наблюдать за явлениями, вписывая их в готовый опыт, сколько моделировать в том числе неготовый опыт, опираясь на известные или предполагаемые свойства вещей. А что происходит дальше, этому посвящены уже следующие главы нашей книги.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Здесь и далее все переводы с латыни, древнегреческого, новогреческого, английского, немецкого и французского принадлежат автору книги. Квадратные скобки употребляются для пояснений, не принадлежащих оригинальному тексту.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов

