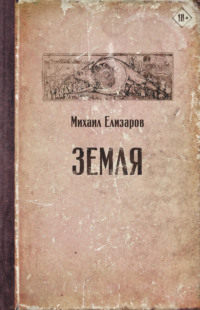
Земля
Мне вспоминалось, как жена какого-то ветерана сетовала подруге, что пиджак мужа весь в дырках от черенков орденов. Старик только посмеивался, а его жирный внук поедал мороженое, что-то канючил, не понимая, какое счастье ему привалило – дед, за которого не краснеешь…
Так что я отсиживался дома, выбираясь только к торжественному салюту на Могиле Неизвестного Солдата, чтобы вместе с приятелями, как только отгремят автоматные очереди, подобрать ещё тёплые гильзы “калашниковых”.
К вечеру улицы пустели и под ногами лежали растоптанные, тронутые фиолетовой гнильцой бутоны тюльпанов и гвоздик, будто следы огромной похоронной процессии, только для вида назвавшейся парадом…
*****Втянувшийся в кочевую жизнь отец отчаянно скучал в тихом Рыбнинске. Врагов здесь вроде бы не было, лишь постаревшие приятели детства. Самый благополучный, дядя Гриша, работал физруком. Он-то и предложил отцу устроиться к ним в школу учителем алгебры и геометрии.
Отец после Бауманки двадцать пять лет жизни посвятил газодинамике двигателей и твёрдым видам топлива, но в рамках школьной программы преподавать мог бы, пожалуй, что угодно: математику, физику, химию, географию, английский и даже астрономию. Он разбирался во всём и недаром закончил школу с серебряной медалью. (Золотую не получил только из-за козней классной руководительницы, интриганки и махровой сталинистки, заранее распознавшей в юном отце свободный дух и независимый ум.)
Поначалу перед опальным кандидатом наук, бывшим завлабом склонялись и робели директриса и завуч. Так что отец на какое-то время ощутил себя цезарем в галльской деревеньке.
Трудно поверить, но первый месяц он улыбался! С восторгом рассказывал, как славно его приняли ребята, как изумило их уважительное обращение на “вы”, взрослая институтская подача материала.
Он обманулся, принял обычное любопытство за доброе отношение. Вскоре отцу уже казалось, что ученики к нему охладели. Он искренне переживал, видя в этом происки “завистников” и “недругов”. Улыбка сошла с его лица.
Отец не учёл, что перед ним не студенты, а обычные подростки. С первого урока он пустил дисциплину на самотёк, а когда спохватился, было слишком поздно. Нового математика не воспринимали всерьёз.
Тогда отец совершил вторую ошибку – прибавил в строгости. Ученической любви это не принесло. Отец несколько раз попытался исправить ситуацию, но дружбы с классом не получалось – когда он изображал добряка, ему садились на голову. Он в отместку пуще прежнего закручивал гайки и пожинал бешеную ненависть.
Через год отец уже открыто свирепствовал. Высшим баллом у него была тройка. Однажды он пришёл домой бледный от ярости – директриса сделала ему замечание: мол, он хоть и “доцент”, а учит плохо, и все на него жалуются.
Отец взволнованно прохаживался по комнате, говорил, что уволится из школы, поминутно чиркая “посмеш-ш-шищ-щем”, как отсыревшими спичками. Мать сидела перед ним на стуле, механически кивала:
– Ага… да… да… м-м-м… да… – и лицо у неё было каким-то скучающим, ленивым.
А когда отец исчиркал весь коробок своих “посмешищ”, мать сказала… Не помню, что именно. В принципе, ничего грубого. Произнесла что-то вроде:
– Сергей, ради бога, не тошни. Иди лучше телевизор посмотри… – а потом встала и ушла на кухню. И даже не оглянулась посмотреть, что сотворили с отцом её убийственные слова.
А они сбили его с ног. Отец в этот миг напоминал нокаутированного боксёра в замедленной съёмке – когда тот, в веере кровавых брызг, раскинув руки, ещё парит между небом и рингом.
Сердцем я чувствовал, что мать поступила дурно. Раньше она не позволяла себе говорить с ним в таком тоне. Она могла кричать, шумно обижаться, плакать – но не была такой жестокой и равнодушной.
Это произошло сразу же после того, как мы разменяли наши три музейных комнаты на два скромных малолитражных жилища. Дедушка с бабушкой переехали в однушку, а нам досталась двухкомнатная квартира. Мать тогда впервые ощутила себя хозяйкой, перекрасилась из брюнетки в рыжую и показала характер.
Несколько дней отец ходил оглушённый, бормотал, что у него нет больше жены, паковал чемодан – готовился бежать в одиночку. Мать с презрительной улыбкой наблюдала за ним. Не останавливала, но и не подгоняла.
Мне было очень жаль отца. Годы спустя я понимаю, что в глубине своей неуживчивой натуры он не был ни гордецом, ни занудой, всю жизнь искал человеческого тепла и понимания, а больше всего на свете боялся оказаться в глупом или смешном положении. Этот страх, вкупе с поисками “правды”, сгубил его карьеру и поломал жизнь.
Поразительно – ведь отец был высоким и статным, без единой комичной черты. О таких в народе говорят: “представительный мужчина”. Когда-то он был другим. Бабушка Вера показывала его школьные, с обломанными уголками, снимки, гранённые временем, усечённые овалы. Вот юный отец стоит в обнимку с приятелями, на голове лихо заломленная кепка – хохочет. Вот перебирает гитарные струны, рот полуоткрыт – поёт…
На поздних фотографиях, и семейных, и для документов, отец позировал всегда с одинаковым выражением лица. Такое бывает у человека, который долгие годы несёт в себе высокую гордую беду.
Помню, как напрягалось всё его естество, если за спиной слышался чей-то смех: над кем потешаются? Во время нечастых застолий отец редко рассказывал анекдоты, никогда не танцевал. А стоило мне, малолетнему, пуститься в детский пляс или запеть, спрашивал с хмурым презрением:
– В клоуны готовишься?
Нужно ли сообщать, что отец никуда не уехал? Формальным поводом послужил сломавшийся замок на чемодане. Отец негодовал, чертыхался, что такая мелочь останавливает его, но мне и тогда было ясно, что сломалась не защёлка, а человек.
Моральная победа матери пришибла отца. Он начал стариться. Когда родители только расписались, отец не считался молодым мужчиной – ему перевалило за сорок. В моменты семейных ссор мать с горечью восклицала, как обманулась она, юная и неопытная, клюнув на представительный возраст будущего мужа.
Родители тогда частенько ругались, и во время одной из таких перебранок я узнал, что у отца давно, за много лет до нас, была другая семья, в которой имелся ребёнок – сын по имени Никита. Получалось, что где-то в другом городе проживает мой сводный брат, уже совсем взрослый.
*****Нерастраченный педагогический задор трансформировался у отца в писательский зуд. Без малого год он истязал меня сказкой домашнего разлива: “Удивительные приключения числа 48 и его друзей”.
Почему в герои попало именно 48, а не 92 или, допустим, 31, не знал даже отец. У меня есть версия, что в момент создания сказки отцу было ровно сорок восемь. Сам отец считал, что перенёс повествование в область предельной абстракции, но в сути отцовское литературное детище по замыслу не особо отличалось от бесчисленных историй с очеловеченными карандашами или молотками. В волшебной стране Цифирии жили главный герой – доброе число 48 и его друзья. Сюжеты были однотипны – арифметические перипетии с моралью. Какое-нибудь злое число нападало на страну добрых чисел, но 48 и со товарищи, собравшись вместе, всегда побеждали. Интрига строилась на неизвестной величине отрицательной армады и обязательном предательстве какого-нибудь числа из страны Цифирии.
Вначале в батальных сценах персонажи орудовали знаками минус. Потом появился знак деления – что-то вроде оружия массового уничтожения, при помощи которого предатель уменьшал армию Цифирии. Когда отцу стало не хватать выразительных средств, он наскоро объяснил мне, что такое математический корень. После чего в одном из сюжетов уже фигурировал некий “ядовитый корешок”, который вражеский шпион подсыпал в пищу главным героям – то есть извлекал из них корень. В одной из глав доброе число 48 переживало грехопадение, становилось отрицательным, но друзья общими усилиями его духовно реанимировали, умножив на –1.
Вообще, у отца были далеко идущие планы. Историю планировалось по мере моего взросления усложнять. Возможно, к концу школы её населяли бы интегралы и дифференциалы.
По семейной легенде сказка была результатом беззаботного досуга. Первыми, кого отец приобщил к этой лжи, были наши немногочисленные гости – физрук дядя Гриша с супругой, ещё коллеги-учителя, которых отец до времени не занёс в “недруги”.
Чтобы обставить это непринуждённостью, отец приглашал и меня за стол, затем с неуклюжим “невзначай” приносил общую тетрадь. Конечно, он хотел, чтобы я сам заводил разговоры про его сказку, но я всегда был нем как могила.
В тексте присутствовали и какие-то политические аллюзии, потому что отец время от времени перемежал чтение хитрыми прищурами. Вежливые гости, все, кроме честного дяди Гриши, которому всякое сочинительство было до лампочки, понимающе улыбались, как бы отдавая должное мастерству автора, сумевшего запаковать в детский жанр дерзкую и взрослую мысль.
Потом учительница русского языка и литературы, а иногда историк, произносили ключевую фразу вечера: “Ой, это всё надо бы опубликовать”. Отец шутливо отмахивался, мол, что за глупости, пишу только для Володьки – и кивал в мою сторону.
У меня на доброе число 48 имелся даже не зуб, а клыкастая челюсть. Как часто случалось, я смотрел какой-нибудь мультфильм, а в комнату входил отец и со словами: “Нечего глаза портить!” – выключал телевизор, волок меня в другую комнату, чтобы зачитать очередную главу. Как после этого я мог относиться к отцовскому творчеству?
Несмотря на лукавые заверения, что публикации его не интересуют, отец однажды повёз-таки “Число 48 ” в Москву. Помню, как мать укладывала в чемодан бутылки с коньяком – на подарки. Из столицы отец вернулся ни с чем. За вечерним столом он талантливо передразнивал речи тупоголовых редакторш – пищал, картавил и шепелявил…
От собственной внутренней драмы отец решил драматизировать и сюжет. В очередном сражении, в результате предательства число 48 погибло, спасая родную Цифирию. Отец растроганно читал свои абзацы, ожидая, вероятно, моих криков: “О, папа, зачем?!”
Я же чёрство воскликнул:
– Наконец-то оно подохло!
Отец захлопнул тетрадь и, швырнув её на стол, вышел из комнаты. На последнем листе, под размашистым словом “КОНЕЦ” я, как умел, нарисовал могильную плиту с цифрой 48 в овале. После этой выходки отец больше недели не разговаривал со мной.
Горечь ещё долго жила в нём. Он ополчился на всю детскую литературу сразу. Однажды, застав меня за чтением волковского “Изумрудного города”, уязвлённо произнёс:
– Надо понимать, тебе по душе этот совковый плагиат “Страны Оз”.
– Пап, а что такое плагиат?
– Словарь открой и посмотри! А заодно понятия “эпигон” и “пастиш”.
Нужно заметить, это был чуть ли не единичный случай, когда отец пренебрежительно обозвал нечто советское “совковым”. К примеру, когда мать двумя годами раньше читала мне “Приключения Пиноккио”, отец с неудовольствием сказал ей:
– Маш, а чего не наш отечественный “Золотой ключик”? Зачем Володьке католическое морализаторство вековой свежести? У Толстого хотя бы просто сказка без лукавых мудрствований!
– Пап, – вступился я за обруганного писателя Волкова, – мне правда нравится.
– Ну, тогда совсем другое дело, – съязвил отец. – Я, как обычно, переоцениваю твои интеллектуальные возможности…
А учился я средне. Где-то в третьем классе забрезжила надежда, что моя вялая успеваемость как-то связана с близорукостью – это предположила наша классная руководительница, когда обратила внимание, что я щурюсь. У отца зрение было нормальное, а немощными глазами я пошёл в мать – она с юности носила очки и была похожа в них на мультяшную маму Дяди Фёдора из простоквашинской саги.
Окулист выписал мне очки, меня пересадили за первую парту, максимально приблизив к источнику материала. Отец очень уповал, что диоптрии каким-то непостижимым оптическим способом увеличат и мои скромные дарования. Но тщетно: успевал я по-прежнему плохо, особенно по точным предметам. Для отца это было дополнительным источником страданий, ведь он действительно был силён в математике, как Васин папа из шуточной детской песенки.
*****Пока я был маленьким, отец мне ничего не дарил. Игрушки он считал глупостью, а до полезных предметов я в его понимании не дорос. Я хорошо запомнил мой девятый день рождения, на который впервые получил в подарок от отца наручные часы “Ракета”.
Наверное, мне бы больше пришёлся по душе современный кварцевый хронограф, но я всё равно обрадовался. Часы были необычные. Циферблат имел не двенадцать делений, а два-дцать четыре. То есть там, где на обычных часах в зените стояла цифра 12, на моих красовалась 24 – в таком замысловатом механизме часовая стрелка совершала полный оборот за сутки.
Я проделал гвоздиком дырку в кожаном браслете, чтоб затянуть его по руке, приложил часы к уху и сполна насладился тикающим ходом, а потом взялся за заводную коронку – выставить точное время. И замер, остановленный истошным воплем отца. Он подскочил ко мне и шлёпнул по щеке. После резко спросил: успел ли я перевести стрелки? Я ответил, что нет, а уже потом заревел – скорее от незаслуженной обиды, чем от боли. Отец с облегчением вздохнул, извинился за пощёчину и всё объяснил. Он сказал, что купил эти часы ещё до моего рождения и завёл их ровно в ту минуту, когда я появился на свет. Если быть точным, то моя “Ракета” стартовала с погрешностью где-то в пятнадцать минут. Поскольку жизнь начиналась для меня с нуля, часы тоже начали свой ход с условного начала суток в 24:00, хоть я и родился утром – по словам матери, где-то в половине девятого.
И вот с того самого момента время в этих часах шло своим, точнее, моим чередом, не стремясь совпасть с наружным, земным. Они отмеривали только моё персональное время, и вмешиваться в него категорически запрещалось. Так объяснил отец. И строго добавил, что раньше он заводил часы, а теперь это буду делать я.
Отцу показалось, что я не воспринял его слова серьёзно, и он, досадуя, второй раз треснул меня – теперь по затылку. Я снова заплакал, и отец повторил, что отныне каждое утро я должен сам заводить часы, а если вдруг позабуду это сделать, то случится нечто более неприятное, чем пощёчина или подзатыльник.
Кстати, носить часы на руке тоже запрещалось, чтоб случайно не разбить и не потерять. Им полагалось лежать в серванте за стеклом.
В этом подарке отразилась вся отцовская натура. Только он умел преподнести вроде бы нужную вещь, от которой не было никакой радости и пользы, лишь одни неприятные обязательства – словно вместо желанного щенка овчарки мне поручили досматривать старую больную диабетом пуделиху.
Я из принципа пытался приспособить часы к эксплуатации. Допустим, они показывали ровно полдень, а московское время было пятнадцать тридцать, то есть следовало прибавлять к моему биологическому ещё три с половиной часа. И при этом учитывать погрешность механизма – мои часы спешили где-то на минуту в сутки. Уже через две недели я сбивался и, чертыхаясь, отступался.
Но, очевидно, благодаря отцовскому подзатыльнику ритуал ежеутренней подзаводки часов стал для меня такой же нормой, как умывание или чистка зубов. Проснувшись, первым делом я ковылял к серванту. Отец говорил, что пружины в часах хватает на двое суток, но просил, чтобы я заводил их каждый день, в одно и то же время, потому что это “залог здоровья часового механизма”.
Отец без всяких шуток называл часы “биологическими”. Говорил, что однажды я пойму, как ими надо пользоваться, и ещё скажу ему спасибо.
Так или иначе, именно часы впервые привели меня на кладбище – спустя два года.
*****Отец и мать старались не вздорить открыто и, наверное, поэтому решили спровадить меня куда-нибудь на всё лето, чтобы без помех выяснять отношения.
Родительский выбор пришёлся на самый обычный лагерь, бывший пионерский, путёвки в который распространяли прямо в нашей школе. Лагерь находился за городом возле водохранилища и назывался как отечественный шампунь – “Ромашка”. Первую смену забирали в начале июня – увозили на автобусах со школьного двора.
По идее, путёвки были бесплатными, но в школьной канцелярии, куда мы пришли с отцом, пояснили, что бесплатно только детям из многодетных семей. Отец из принципа устроил скандал. Грозился написать жалобу в министерство и в газету. Дошло до того, что вызвали завуча, которая продемонстрировала отцу бумагу, где действительно было написано, что путёвки “по возможности” должны быть дармовыми. А такой возможности, как добавила завуч, нет.
Мне было ужасно неловко. Я буквально шкурой чувствовал полный ядовитой неприязни взгляд нашей завучихи, похожей в своих громоздких очках одновременно на паука и на пойманную им глазастую стрекозу.
А отец словно не понимал, что мне потом учиться в этой школе. Позже я не раз слышал неодобрительные учительские шепотки: мол, это сын того самого, который скандалил.
В итоге отцу всё равно пришлось заплатить. Ему с нескрываемым злорадством отказали в трёх сменах. Уступили одну – самую первую, июньскую.
На улице отец до боли стиснул мне руку и прошипел, как упавший в воду уголёк, что я сделал из него “посмеш-ш-шищ-ще”. Ведь именно я сказал ему, что лагерь бесплатный. Мне о лагере сообщил мой одноклассник Толик Якушев. Толик как раз был из многодетной семьи.
Отдельно я получил за то, что отец не захватил из дома деньги и едва наскрёб по карманам нужную сумму. А это, по его мнению, выглядело “смешно”.
* * *Через неделю учебный год подошёл к концу. После образовательной реформы, отменившей десятилетку, мы из третьего класса перескочили сразу в пятый.
Свежим июньским утром родители проводили меня к школе – там стоял наш автобус. Я пристроил рюкзак на задних сиденьях, заменявших нам багажное отделение, и уселся в кресло у окна рядом с Толиком Якушевым. Он-то катил в “Ромашку” на всё лето – вместе с двумя старшими братьями и младшей сестрой.
Уже в дороге я вспомнил о часах и похолодел. Верный отцовскому наказу, я благополучно оставил их на полке в серванте!
Я как ужаленный сорвался с кресла и побежал в начало салона, где сидели наши вожатые – три девушки и два парня, студенты педагогического института. Я запомнил, как звали парней – Сергей и Эдик. Они знакомились с нами в школьном дворе перед посадкой. Отец, похмыкав, назвал их “толстый и тонкий”.
Я принялся сбивчиво объяснять, что оставил дома важные вещи и мне нужно срочно вернуться в город. Толстый Сергей даже не стал меня слушать, отмахнулся, сказав, что из-за одного человека никто не поедет обратно, а тонкий Эдик иронично прибавил, что “глобус и учебник математики” мне на выходные привезут родители. И ещё шутливо добавил:
– Давай, профессор, топай на место! – и все, кто это услышал, засмеялись. Профессором он назвал меня из-за очков, благодаря которым я производил впечатление учёного мальчика, а не троечника. Я поплёлся обратно.
Что и говорить, положение было ужасное. Объяснить вожатым истинную причину своей паники я не мог – меня бы подняли на смех. По большому счёту, мне самому было странно, отчего я так перепугался. Ну подумаешь, часы! Не верил же я всерьёз, что моё благополучие напрямую зависит от их бесперебойного хода…
Остаток пути я убеждал себя, что отец, конечно же, заметит часы на полке и заведёт их сам, но отвлечься от тяжёлых дум никак не удавалось. И так обидно было наблюдать за чужой беспечностью. Все радовались дороге: весело вскрикивали, когда автобус подбрасывало на ухабах, и вместе с Эдиком, несмотря на жаркий июнь, пели “Что такое осень – это небо”. В общем, всем, кроме меня, было хорошо.
На свежевыкрашенных воротах красовалась огромная, похожая на пропеллер ромашка. Белые лопасти обсыпала черёмуха, а солнечного цвета сердцевина стала липким кладбищем для стайки обманувшихся мошек.
Сам лагерь был неплох. Одноэтажные постройки с просторными верандами выглядели так приветливо, что язык не поворачивался назвать их бараками. Под длинным навесом располагались летние умывальники, округлые вымечки из алюминия – штук по двадцать с каждой стороны.
Мальчиковый туалет – сдвоенный деревянный сарайчик – украшала роспись из условных ромашек, очевидно, в честь названия лагеря. Возможно, цветы работали оптическим ароматизатором, потому что пахло у нас лучше, чем в соседнем девчачьем нужнике, где на стенах были только божьи коровки.
Имелся летний кинотеатр с небольшой сценой – для самодеятельности. Были павильоны: ручного творчества, шахматный, музыкальный, и возле каждого торчал стенд с нарисованным пионером; судя по тому, что пионер держал – лобзик, гигантского ферзя размером с младенца или же гитару, – можно было догадаться, чего ожидать внутри павильона.
Стенды были старые, из прошлой советской жизни, как и гипсовые болваны – салютующие или со вскинутыми горнами. Да и само́й пионерской организации уже лет пять как не существовало.
В лагере вовсю кипела жизнь – автобусы из других школ приехали раньше на несколько часов. Возле теннисных столиков уже собралась очередь. На асфальтированной площадке стучал баскетбольный мяч, где-то в тополиной листве то откашливался, то репетировал мелодии осипший репродуктор.
Наши автобусы рассортировали по возрастам и разделили на отряды. Меня, Толика Якушева и ещё пятерых записали в отряд, где вожатой была стеснительная, мышиной комплекции педагогическая девица по имени Света. Эдик, видимо, хорошо знал её, потому что сказал нам с улыбкой:
– Светлану Николаевну не обижать! Ясно, разбойники?..
Вместо тихого часа мы обживали нашу палату, собирали панцирные кровати, таскали со склада одеяла и подушки, постельное бельё из прачечной. После полдника пришёл мужик в белых шортах и с аккордеоном, лагерный массовик, чтобы выяснить, есть ли в нашем отряде певчие таланты. Мы тянули хором “Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь”, а массовик говорил, кому помолчать, а кому петь дальше. При этом массовик тоже пел – ему самому очень нравилась песня. На вечерней линейке начальник лагеря поздравил нас с началом смены и пожелал хорошего отдыха.
Всё это время я умудрялся не думать о часах. Просто душу давила какая-то сырая холодная тяжесть, точно на меня надели промокший свитер. После отбоя, когда были рассказаны страшилки про чёрные руки и красные пятна и палата угомонилась, я остался наедине со зловещей тик-такающей тишиной. Я пытался успокоить себя, что отец помнит о моих часах. И тут словно воочию увидел жуткую картину: мать кладёт за стекло какие-то квитанции – прям на часы, только ремешок наружу выглядывает. Отец их просто не увидит!
Я вскочил с кровати, принялся лихорадочно одеваться. Через полминуты одумался, разделся и снова лёг. Следовало терпеливо дождаться утра, поговорить с начальником лагеря, объяснить, что мне срочно нужно в город. Ах, как всё было бы просто, если бы у нас дома имелся телефон, но его, увы, не было.
Ночью я почти не сомкнул глаз – еле дождался подъёма. Вожатой Свете я выпалил, что родители уехали в отпуск, а я оставил дома невыключенный утюг – первое, что пришло в голову. Вожатая всполошилась и повела меня к начальству. По пути я сообразил, что идея с утюгом довольно бредовая. Да и по факту переживать-то уже было поздно – или утюг, или квартира.
Тем не менее я назойливо ныл про утюг. Неожиданно заявился Эдик, который точно знал, что меня провожали родители – отец перед отправкой лично побеседовал с ним в своей поучительно-ворчливой манере. Эдик разом всех успокоил, сказав, что с утюгом определённо проблем не будет: найдётся, кому выключить. На этом разговор закончился.
Я чувствовал себя живодёром. Часы представлялись мне существом, которое я бессовестно обрёк на медленное умирание. Буквально шкурой ощущал, как слабеет часовая пружина, как выдыхается их заводная жизнь…
Вечером в голову пришла запоздалая идея, что можно отправить отцу телеграмму. Но почтовое отделение, если таковое вообще имелось в посёлке, наверняка уже было закрыто.
Странно, но я до последнего откладывал мысль о побеге. Я осознавал, что часы – обычный неодушевлённый предмет. Они никак и ничем не были связаны со мной, кроме пресловутой “биологичности”. Кроме того, я отдавал себе отчёт, что бегство – это серьёзнейшее нарушение дисциплины и меня наверняка отчислят из лагеря. Никто не поймёт моего поступка: “Он сбежал, чтобы спасти часы”. Но какая-то иррациональная область ума вопила от ужаса и требовала немедленных действий.
Перед сном мои беспечные соседи стращали друг друга историями про Крюгеров и Джексонов, а вот мне было страшно по-настоящему. Я понял, что вовсе не убийца часов, а самоубийца.
На рассвете я бежал из лагеря. До того положил на тумбочку записку для вожатых: мол, не беспокойтесь, я не пропал, а просто уехал домой.
Центральный вход не охранялся, так что я вполне мог бы выйти через ворота. Но, придерживаясь канонов побега, я чуть ли не ползком прокрался к летнему кинотеатру и под прикрытием его стены перелез через забор. Он был невысокий, из крупноячеистой сетки-рабицы.

