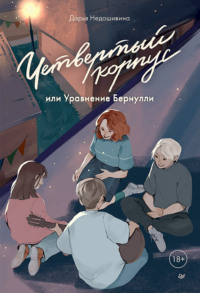
Четвертый корпус, или Уравнение Бернулли
– Лиза Симпсон! – гаркнул Вова, вскочив на скамейку, но Виталик покачал головой.
– Не зачтут, – со вздохом сказал он. – Это же пионерский лагерь. Здесь все должно быть коммунистическое. А никто случайно не знает известную женщину с именем Роза?
Анька зажмурилась, схватилась за два пышных рыжих хвоста и потянула их вниз.
– Думай, думай, думай, – забормотала она, сделала шаг к краю кулисы, но промахнулась, и каблук громко стукнул по коричневому глянцу.
Лиза обернулась на звук, но Анька ничего не смогла ей подсказать. Ответ не приходил в голову. Сочувствуя этой девочке и видя в ее испуганном лице как будто свое собственное отражение, Анька закрыла лицо руками и выдохнула:
– Бедная Лиза.
Лиза кивнула, повернулась к залу и громко повторила ответ.
После случайно выигранного конкурса вечерняя «свечка» искрилась фантиками от конфет, блестела фольгой от шоколадок и шуршала целлофаном от чупа-чупсов. До отбоя оставался еще час, но темнело гораздо позже. Чтобы создать в игровой полную темноту, пришлось воспользоваться Лехиным изобретением: снять шторы и повесить вместо них два покрывала с рисунком «турецкий огурец». Они плотные, свет не пропускают, но вот беда, оказались дырявыми. Стоя на подоконнике, Сережа просунул руку сквозь дыру и спросил у Женьки, не нарушит ли этот досадный недостаток некоторую магию момента.
Женька в это время рассаживал детей на матах: взяв за плечи, вдавливал их как разноцветные кнопки, чтобы те приняли сидячее положение, и заходил таким образом уже на третий круг.
– Не нарушит что? – спросил он, перекрикивая Вову, который только что сказал, что у нас пионерский лагерь, а не клуб анонимных алкоголиков.
– Все, хватит! Смотрите, сейчас будет фокус.
Я выключила свет, и почти сразу же на полу зажглась электрическая елочная гирлянда, а в центре игровой – полный восторг – ультрафиолетовая лампа в виде большой синей капли. Мгновенно все, что было белым, засияло нежно-фиолетовым светом, и разноцветные «кнопки» без команды вдавились в маты.
– Не нарушит, – сам себе сказал Сережа, спрыгнул с подоконника и застыл на месте. Последний луч заходящего солнца, пройдя сквозь дыру в покрывале, будто золотым мечом ударил в светлый висок.
– Сережа! – Из темноты, прижимая к груди шоколадного зайца, которого ей подарила Лиза, выплыла раскрасневшаяся Анька. – Можно я отойду? На пять минут всего!
Сережа огляделся: в темной, вспыхивающей разными цветами игровой снова сидели все тридцать четыре ребенка, Валерка мял в руках сирень-говорилку, Женькины голубые теперь волосы сияли в углу у самовара, рядом с ним, подобрав под себя ноги, сидела я и показывала на наручные часы: скоро отбой, а нам еще нужно всех выслушать.
– Куртку только возьми и до планерки вернись, я один не уложу, – спокойно сказал он и повернулся к детям: – А мы пока расскажем друг другу, как нам здесь замечательно живется. Так ведь?
До планерки Анька не вернулась. Когда она вошла в подъезд, освещенный идущим из коридоров дежурным светом, все в четвертом корпусе уже спали, а Нонна Михайловна, готовая начать ежевечернее совещание с педсоставом, встала у стены под круглыми часами. Так ей было лучше видно спящего за столом Женьку, а Сашке, который сидел перед ним, был виден ее синий брючный костюм с поясом на запах.
– Евгений! Я к вам обращаюсь. Вы спите?
Женька поднял голову. Первым, что он увидел, было его отражение в темном окне. На щеке отпечаталась пуговица от рукава джинсовки, на лбу – лепестки вышитой розы.
Сашке было скучно, жарко и как будто тесно. Чтобы как-то развлечь себя, он слушал плеер и барабанил пальцами по столу. Нонна Михайловна наклонилась к нему и выдернула из уха шипящий наушник.
– Завтра родительский день, Александр, – сказала она. – Вам должно быть не до сна и не до музыки. Ознакомьтесь со списком запрещенных продуктов.
«Родительский день», – написал Женька в блокноте и глазами размером с детские шашки посмотрел на меня.
Родительский день всегда ждут с такими глазами. Даже Нонна Михайловна. Его никто не любит, потому что в течение всего дня приходится отвечать на вопросы, одна половина которых представляет собой плохо завуалированные просьбы сделать отдых детей не хуже, чем на побережье Средиземного моря, а другая не имеет отношения к лагерю вообще. Но самое страшное – это контрабанда продуктов, которая в лучшем случае срывает работу кухни, а в худшем – изолятора, когда Пилюлькин машет перед лицом Нонны Михайловны последним блистером бесалола и кричит, что здесь не пионерский лагерь, а какой-то холерный барак.
Жить почти две недели в ожидании этого кошмара крайне непросто и хочется побыстрее отстреляться, но ни в одном лагере родительский день не устраивают почти сразу же после начала смены. Обычно он двенадцатый – следующий после банного дня и замены белья, когда можно продемонстрировать родителям их чистых детей, сидящих на таких же чистых постелях, что бывает очень редко. Если говорить точнее, то это единственный день, когда есть такая возможность. Однако Нонна Михайловна уже много лет занимала должность директора лагеря и за это время разработала целую теорию относительно того, когда нужно проводить родительские дни.
Педагоги и детские психологи утверждают, что среднее время адаптации ребенка в новых условиях – неделя. Вот тогда и нужно устраивать первую встречу с родителями, чтобы избежать массового исхода не успевших адаптироваться детей. Но главный специалист по детскому отдыху, с которым Нонна Михайловна была знакома лично, однажды сказал ей: «Чаво трястися до двенадцатого дня, ежели путевки профсоюзные и все тута по десять разов уже были? А ежели кто и первый раз, то кто отсюдова уедет? Воздух, вода в кране. Чаво еще надо-то?»
Сначала Нонна Михайловна усомнилась в словах этого специалиста, но что-то похожее на последнюю часть его фразы она услышала на днях в министерстве, поэтому решила прислушаться к совету и сделать все, чтобы «перестать трястися» как можно раньше. И действительно, даже на четвертый день смены мало кто уехал. Правда, и мало кто приехал, потому что был рабочий день, но это здесь совершенно ни при чем.
– Бесполезно, Нонна Михайловна, – сказал Сашка. – Шмонай не шмонай, все равно потом под матрасами колбаса тухнет.
– Александр, – обратилась к нему директриса, обрадованная тем, что появился повод к нему обратиться, – вы вожатый и должны смотреть лучше. Вы же сами знаете, что в противном случае нам обеспечены проблемы физиологического характера.
Виталик, который записывал все, о чем говорят на планерках, пожелал уточнить, какие конкретно проблемы физиологического характера нам обеспечены, но директриса замялась.
Предвкушая веселую беседу, Сашка с хрустом потянулся:
– Да что вы, Нонна Михайловна, вокруг да около всё ходите? Острый дристоз нам обеспечен. Вот и вся проблема.
Нонна Михайловна отвернулась к окну и выждала, пока все посмеются над этой шуткой.
– Смею вам напомнить, Александр, что в нашем изоляторе всего одна палата на четыре койко-места и один туалет, вокруг да около которого в прошлом году ходили пятнадцать детей из первого отряда и один вожатый, чье имя я называть не буду.
«Острый дристоз», – написал Виталик.
– Да кто ж знал, что черешня немытая? – сказал Сашка и передал Виталику список запрещенных продуктов, чтобы тот не мучился, переписывая все названия сигарет. – Еще запиши: «Спазм мышц малого таза, вызванный шоколадной интоксикацией».
«Спазм мышц малого таза», – записал Виталик.
– Читайте внимательнее, Виталий, – попросила Нонна Михайловна. – Как известно, воинский устав написан кровью, а этот список написан…
– Фу! – фыркнул Сашка и вытер руки о джинсы Виталика. – Что ж вы сразу не сказали, чем он написан!
– Александр! – Нонна Михайловна обернулась. – Вы на планерке или где? И на начинку конфет смотрите. В прошлом году кому-то привезли конфеты с водкой, потом мы долго думали, чем вызвано такое странное и необъяснимое поведение одной из вожатых. И будем надеяться, что в этой смене обойдется без острого дристоза.
– Эх! – хваля ее за смелость, Сашка хлопнул в ладоши и стрельнул двумя бронебойными.
Но какая досада: тема дристоза была исчерпана. Опять стало жарко, тесно и скучно. К счастью, на Сашкином столе оказался график дежурств на КПП. Мое имя стояло в нем первым, и Сашка обернулся ко мне:
– Не бойся, он написан шариковой ручкой.
– Какое счастье, что не кровью или чем-то еще! – Я потянулась за графиком, но Сашка накрыл его своей ладонью: не так быстро, товарищ пионервожатая.
Ах, простите. Сначала нужно заглянуть в серые в дымке ресниц глаза и решить, что же слаще – утонуть в этих чистейших озерах или сгореть от страсти, касаясь кончиками пальцев пылающего румянца? Или, может, заблудиться в темных прядях густых волос, а потом задохнуться от жарких поцелуев коралловых, будто присыпанных сахарной пудрой губ? Саша, какой же ты все-таки смазливый…
– …мы завтра еще и по столовой дежурим. Вот мы как-то в прошлом году дежурили и кастрюлю с киселем на пол разлили, а тут как раз Борода шел пьяный в жопу!
…балабол.
– Александр! Вы на планерке или где?
После Сашки от тишины звенело в ушах. Не желая ее нарушать, Женька молча остановился возле выхода из главного корпуса и глазами показал на стеклянную дверь. Я должна была ее перед ним открыть. Похожие на эти стеклянные с плоскими металлическими ручками двери, открывающиеся сразу в обе стороны, были не только в советских универмагах, но еще и в метро, где однажды на выходе со станции «Первомайская» шестилетнего Женьку стукнуло железной ручкой по лбу. С размаху. На «Первомайской» еще сквозняк такой… После этого случая он стал опасаться подобных конструкций и, так совпало, увлекся вырезанием бумажных куколок.
– Женя, это невозможно, – я с трудом потянула на себя ручку и показала в темноту, где за нашими отражениями белели задник и трибуны. – Нельзя всю жизнь бояться того, чего нет. Это было сто лет назад.
– Там! – крикнул Женька, и нас обоих впечатало в стену.
Мне повезло: я только ударилась головой и оцарапала ногу о веник, который торчал из ведра для мытья полов. А Женька, хоть и успел заметить, что к дверям на бешеной скорости подбегает Анька, принял весь удар на себя и чуть не лишился целостности носовых перегородок.
– Вот вы где прячетесь! – сказала Анька, не обращая внимания, что у Женьки нос в крови, а я сижу на полу возле ведра в задравшейся юбке. – Отдыхают они здесь, а мне столько всего надо рассказать!
Не желая нарушать тишину летней ночи, Женька молча забросил джинсовку на плечо и пошел в корпус.
– А я еще думаю, где вы застряли! – Проводив его взглядом, Анька помогла мне встать и воткнула выпавший из ведра веник обратно. – Я ходила к Дереву, а там такое произошло, такое произошло!
Веник перевесил и снова выпал, ведро загремело по кафельному полу.
– Да пойдем уже, – я зажмурилась от боли в голове, и мы вышли на улицу, где Анька начала свой рассказ.
Следуя Лехиным инструкциям, к Дереву она пришла в точно оговоренное время и, когда последний солнечный луч блеснул в открытом окне его вожатской, приклонила колено перед Иваном да Марьей. Под тесно переплетенные стволы клена и рябины она положила шоколадного зайца с истекающим сроком годности и трижды произнесла имя возлюбленного. Однако в это же самое время где-то неподалеку точно такое же имя трижды произнесла Сашкина напарница. Анька не на шутку перепугалась, но тревога оказалась ложной. Своим писклявым (что важно) голосом Маринка молила не о любви, а о помощи: в первом отряде произошло ЧП.
Насмотревшись, как на открытии смены Сашка выкатывал в чемоданах несуществующий четвертый отряд, два шестнадцатилетних пионера захотели повторить этот фокус и скатиться в чемодане с лестницы.
На такую нагрузку чемодан рассчитан не был, поэтому, не преодолев и трех ступенек, развалился. В результате оба пионера с огромным ускорением просвистели вниз по лестнице на оторвавшейся от чемодана крышке и, выражая свой восторг нецензурными идиомами, вылетели через распахнутую дверь второго корпуса прямо под ноги проходящего мимо Пилюлькина.
В это время, совершая вечерний обход, по дорожке, идущей мимо второго корпуса к изолятору, шел Ринат. Увидев столпотворение возле входа и не желая становиться его участником, он решил обойти корпус со стороны леса, но, проходя мимо пожарной лестницы, заметил Аньку, которая сидела под Деревом любви в позе кающейся Марии Магдалины и думала: хватит ли Ивану да Марье зайца или нужно доложить что-то еще.
Поздоровавшись с ней, Ринат поинтересовался, как дела в четвертом корпусе. Но больше всего его интересовала…
– Ты! Представляешь?! Он так и спросил: где ты!
Ах и ух, товарищ пионервожатая. Анька замерла, ожидая бурной реакции, а я раскрыла блокнот и уставилась в свои записи: «…чем вызвано такое странное и необъяснимое поведение одной из вожатых».
– Он ничего не сказал про шоколадного зайца и даже не спросил, почему я сижу под этим деревом, но зато каким-то образом узнал, что мы с филфака, и спросил, какой у тебя любимый писатель. Ты понимаешь, что это значит?
Любимый писатель… Я достаточно хорошо знала Аньку, чтобы немедленно начать предчувствовать недоброе.
– И я сказала, что у тебя не писатель, а поэт – Леонид Губанов!
Недоброе подтвердилось. Анька захлопала в ладоши и начала смеяться. Она смеялась так долго, что я успела прочитать все, что записала на сегодняшней планерке, после чего поняла: они с Сашкой будут идеальной парой.
– Это кошмар, – я закрыла блокнот и закусила губу. – Я даже не понимаю, о чем этот Губанов пишет. Его и не знает никто! Не могла придумать что-нибудь модное? Бродский там, Евтушенко?
– Ага, Зинаида Гиппиус. – Анька перестала смеяться, но только чтобы набрать воздуха. – Или Ахмадулина. Ринат бы точно оценил позднее творчество Беллы Ахатовны!
«Ахмадулина» и «Ахатовны» она произнесла как «Ах-ахмадулина» «Аха-хатовны», и ее опять понесло. Я развернулась и пошла в темный подъезд.
– Стой! – крикнула Анька и побежала за мной. – Тебе же он не нравился! Тогда какая разница, что он о тебе подумает?
* * *В вожатской Виталика вскипел чайник.
Дождавшись короткого Ленкиного кивка, Виталик налил в две одинаковые чашки из фарфорового сервиза крутого кипятка.
– Я вот о чем теперь часто думаю, Лена, – сказал он и посмотрел в окно на кусты сирени. – Какая известная женщина носила имя Роза?
– Люксембург! – гавкнула Ленка. – Я же тебе кричала из зала. Ты глухой, что ли?
Виталик довольно улыбнулся.
– Лена, ты прямо как моя мама, – сказал он и густо покраснел. – Такая же умная.
День 4-й
Шторы задернуты плотно, насколько это возможно, но в вожатской светлее, чем днем. У Лехи такая блестящая и гладкая голова, что похожа на круглый горящий плафон, и света от нее столько же.
– Ой, лежи так, не накрывайся, – сказал Леха вполголоса, чтобы не разбудить Аньку. – Жаль, руки у меня заняты.
В руках он держал две полные бутыли для кулера, и это нисколько его не затрудняло, но, собираясь сесть на заваленный одеждой стул, он все же поставил их на пол. Стул под ним скрипнул, где-то под слоями одежды хрустнула одна из деревянных перемычек спинки.
– Завял твой венок. – С кровати я дотянулась до ниши тумбочки и достала венок из поникших цветов. – А мы уж подумали, что они заговоренные.
Леха махнул рукой: не страшно.
– Сейчас к воротам дежурить пойдешь. Там беседка есть, а по ней вьюн ползет. Он зацвел как раз – сплетешь себе новый. А когда плести будешь, суженый придет. Все девки так делать будут. Сегодня Вьюн Зеленый, или Никифор Дубодер.
Леха сильно картавил, и последние два слова дались ему с трудом.
– Кто-кто сегодня? – переспросила я.
– Никифор Дубодер. Тьфу ты! Да ну тебя на фиг! – Леха встал со стула. – Такую красоту испортила.
Подхватив бутыли, он пошел к выходу, но у двери обернулся:
– Возьми с собой пацаненка, чтоб в отряды родителей провожал, только побойчее. Того, конопатого. И тушенки мне там из конфиската отложите, если будет. Я вечером картошки в сковороде нажарю.
– Что-что сделаешь?
– Ай, да иди ты!
Такое возможно только с Лехой: сломал стул, дважды послал, а ушел – и темно стало.
Того конопатого звали Валерка. Встать ему пришлось раньше всех, но на свое первое дежурство на КПП он шел с радостью: широко расставлял ноги и размахивал зажатой в худенькой руке колодой карт. На травяных кочках еще блестела роса, дорога не пылила, но солнце редкими лучами уже сгоняло промозглость раннего утра. В глубине соснового леса раздавалось негромкое «ку-ку», со стороны забора долетал шум проснувшегося шоссе.
В конце пути, вильнув два раза, бугристые колеи уперлись в деревянные ворота. Из-за того что мы пришли слишком рано, в кованых кольцах висел амбарный замок. Рядом с воротами, чуть в стороне от дороги, стояла круглая беседка с высоким резным куполом. Как и обещал Леха, по всей его поверхности расползся вьюн и превратил беседку в цветущий шатер.
Зажав в зубах колоду, Валерка двумя руками перебрал свисающие с купола лианы, отыскал вход и первым вошел внутрь. В центре деревянного пола плоским грибом торчал круглый, потемневший от дождей стол, вкруг стояли залоснившиеся скамейки.
Я ухватила конец одной из цветущих лиан, свисающий прямо над столом, и потянула его вниз.
– Хочешь, сплетем тебе венок?
– Я же не девчонка, – обиделся Валерка. – В дурака давай! Договаривались же.
Игру в карты с восьмилетним ребенком можно было считать полным педагогическим фиаско, но Валерка наотрез отказался брать на КПП шахматы, чтобы не позориться перед народом, а карты обещал спрятать, как только этот народ появится, чтобы не позорилась я.
– Ладно. Все равно никто не видит, – согласилась я и, не выпуская из рук цветущую лиану, села на скамейку. – Но венок тоже сплетем!
С первого же хода мой веер из карт начал безостановочно расти, но, даже отвлекаясь на плетение венка, я заметила, что карты Валерка берет уже из биты.
– Эй, вышел этот король уже, – я подцепила крестового короля и бросила его в биту. – Так нечестно!
– Тс-с! – Валерка спрятал нос за веер из карт и скосил глаза в сторону ворот. – Убирать или свой?
Я раздвинула лианы и заглянула в просвет между вензелями. У ворот стоял Ринат и, звеня связкой ключей, открывал замок. Он нас тоже увидел и показал, что сейчас подойдет. Он улыбался, но все равно стало неловко. Теперь подумает, что я разговариваю с небом, читаю сумасшедших поэтов советского андеграунда и в свободное от всего этого время играю с восьмилетними детьми в карты. Товарищ пионервожатая, признайтесь честно, вы…
– Дура! – крикнул Валерка и бросил на стол свою последнюю карту – крестового короля.
Подпрыгнув от неожиданности, я стукнула ладонью по столу и сунула Валерке венок из вьюнков.
– Хотя бы сделай вид, что венок плетешь.
Валерка отвернулся и задрал нос к цветущему куполу. Я пододвинула венок еще ближе, и Валерка взял его в руки.
– Ну ла-адно, – нехотя сказал он вошедшему в беседку Ринату, – мы плетем здесь венки. Как две дурочки.
Ринат увидел сваленные под столом гирлянды вьюна и прямо спросил:
– Никифор Дубодер?
– Все равно делать нечего, – неуклюже оправдалась я сразу и за венок, и за карты. – К нам еще никто не приехал.
Ринат сел рядом, взял карту и стал стучать уголком по столу, думая, что сказать.
– И не приедет, – вдруг сказал он и, перехватив мой вопросительный взгляд, засмеялся. – Я ведь так и не открыл ворота. А вы пока кукушек можете послушать. Таких, как здесь, больше нигде нет. У них брачный период. Самцы завлекают самок. Сейчас будет целый хор.
Будто в подтверждение его слов, две или три кукушки закуковали где-то совсем рядом. Я повернулась, чтобы разглядеть их в просвете между вензелями, и случайно коснулась ладони Рината. От плеча до запястья рука покрылась мурашками, и в пятнах солнечных зайчиков заблестели поднявшиеся светлые волоски. Ринат бросил на них взгляд, поднял бровь и, улыбаясь, отвернулся.
– Холодно, – сказала я и потерла руку. – Кто придумал так рано дежурить?
– Так это же хорошо, – сказал Ринат, поднимаясь. – Меньше родителей достанется.
У выхода он собрал гирлянды вьюна в толстый хвост и заправил его за резной вензель.
– Я живу за стадионом, – сообщил он, как будто открыл какую-то тайну. – Завтра вы пойдете туда фотографироваться с отрядами. Вечером после отбоя занесу тебе расписание и расскажу, как идти. Будешь ждать?
Вензель оказался слишком маленьким для такого толстого хвоста, и цветущие лианы стали одна за другой выпадать из него, скрывая Рината.
– Буду, – быстро сказала я, пока последние лианы еще держались за деревянный завиток.
– Отлично, – ответил Ринат и, играя связкой ключей, пошел открывать ворота.
Родителей нам с Валеркой действительно досталось мало – всего двое. У одной мамы мы конфисковали копченого палтуса, но все закончилось мирно, а другая устроила скандал на ровном месте.
Ее сын числился в третьем отряде, и хотя его устраивало здесь все, ее не устраивало ничего. Гневно размахивая паспортом, она спрашивала, почему третий отряд так часто дежурит по столовой, почему ее ребенок вынужден участвовать в подготовке всех мероприятий, почему он не спит в тихий час, кто следит за отсутствием в отряде вшей, за чистотой рук и свежестью постелей и как объяснить тот факт, что вчера ее сын не спал до часу ночи, но вожатая все равно подняла его в восемь утра.
Сначала мама просто стучала кулаком по столу, на котором подпрыгивали разбросанные карты и цветы, а потом начала еще и тыкать пальцем в Валерку, но тот сидел со сложенными на груди руками и был совершенно спокоен, чем выводил ее из себя еще больше. Когда претензии мамы закончились, Валерка встал, демонстративно поковырял пальцем в ухе и предложил проводить ее в третий ряд.
– Я еще уточню у директора, есть ли у вас громоотводы, – предупредила мама, выходя из беседки. – И дай бог, чтобы они были, потому что, поверьте мне, дорогая моя, это в ваших же интересах!
Больше в наше дежурство никто не приехал. Когда Валерка вернулся, весь оставшийся час мы честно слушали кукушек, отпускали за хлебом божьих коровок и, черт с ним, играли в дурака, пока на посту нас не сменила Анька. В назначенное время, чем-то взволнованная, она выбежала из-за сосен и чуть не пролетела мимо беседки.
– Дерево любви работает! – объявила она, плюхаясь рядом со мной на скамейку. – Представляешь, меня здесь должен был сменить Виталик, но к нему приехала мама, поэтому он поменялся с Сашкой. Это судьба!
Довольная Анька огляделась по сторонам и понюхала фиолетовый цветок вьюна. Тонкая дудочка облепила нос.
– Какое романтичное место! А это у тебя что?
Я сняла с головы заинтересовавший Аньку венок и положила его на стол.
– Да это Леха все со своими присказками. Сказал, что если сегодня из вьюна сплести венок, то суженый придет. Вот и сплети себе, как раз с Сашкой встретитесь.
Я уже собиралась выйти из беседки, но вдруг замерла у края цветущего балдахина и, пораженная страшным открытием, повернулась к Аньке:
– Никифор Дубодер! Тогда что же это получается? Эта истеричка – мама Виталика?!
К концу второго часа Анькиного дежурства на столе, заваленном конфискатом, лежали уже четыре требуемых для достижения счастья в личной жизни венка, но сменять Аньку пришел почему-то не Сашка, а Сережа. На вопрос, какого лешего он это сделал, Сережа ответил, что Леха вместе с первым отрядом организовал для оставшихся в лагере детей игру «Тропа смелых», в ходе которой Сашка якобы заблудился в лесу и одним из заданий было его найти.
– Ну, Леха… – сквозь зубы процедила Анька и прямо с КПП отправилась на поиски старшего физрука, который, разумеется, специально выдумал эту «Тропу», чтобы скрыться от возмездия.
Но скрыться от Аньки не так-то просто. Через двадцать минут Леха был обнаружен на стадионе с оранжевым конусом на голове и в окружении детей, гавкающей Ленки, замученного Виталика и Гали, которая трясла перед всеми стопкой написанных его мамой жалоб.
Увидев это столпотворение, Анька решила, что она как раз вовремя, и, растолкав Галю, Виталика, Ленку и детей, выложила Лехе с конусом на голове свои претензии по поводу отсутствия волшебных свойств у местной фауны. Ведь мало того что Никифор Дубодер умудрился подвести, так и Дерево любви до сих пор не сработало.
Выслушав ее, Леха снял конус, абсолютно наглым образом хохотнул в него и, неумело прикрываясь тем, что у него три команды по тридцать человек и сейчас у них решающий этап эстафеты, сослался на занятость, но пообещал, что до конца дня Дерево любви обязательно придумает, как свести ее с вожатым первого отряда, которого, кстати, так и не удалось найти ни одной из трех команд.

