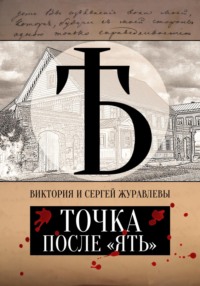
Точка после «ять»
Незаметно приличные чистые мостовые сменились перекинутыми через лужи досками, и мы, пройдя многочисленные улочки и переулки, очутились в тупичке среди приземистых неказистых домов. Ветки деревьев спускались из-за высоких глухих заборов, многие из которых были утыканы поверху острыми гвоздями.
Мы подошли к небольшому старому дому на несколько квартир и постучали. Какая-то баба с подоткнутым подолом отворила дверь и, исподлобья оглядев нас, проводила в верхние комнаты, откуда доносились звон стаканов и оживленный разноголосый говор. Скрипучие половицы, как оказалось, издали оповестили собравшуюся компанию о новых визитерах, так что встречены мы были громко и весело.
Дальнейшие воспоминания того вечера остались в моей памяти лишь разорванными лоскутами. Друзья Данилевского оказались довольно шумными молодыми людьми, на спор пьющими пиво и разнообразные наливки, добытые, подозреваю, в ближайшем трактире или же, не исключено, в родительских кладовых, претерпевших налет и разорение.
Ближе к полуночи мы наконец выбрались на улицу. Так как ночь ожидалась лунной, фонари сегодня не зажигали. Однако надежды на ночное светило со стороны жаждущих экономии городских чиновников не оправдались, и потому темень стояла хоть глаз выколи. Однако нас это не смутило: прислонившись к изгороди, мы продолжали пить из бутылки не то наливку, не то шампанское, и шутили, и смеялись, и вдыхали пахнущий цветами акации свежий воздух, наслаждаясь ночной прохладой.
Где-то вдали послышались скрип рессор и перестук копыт. Данилевский, опершись рукой на забор и немного пошатываясь, вгляделся в темноту и залихватски свистнул. Экипаж подъехал к нам и остановился. С трудом ворочая языком, я в конце концов все же сумел выговорить извозчику адрес гостиницы Прилепского.
Глава II
Следующее мое утро началось в час пополудни. Несмотря на сильнейшую головную боль, я сумел встать и кое-как привести себя в порядок. Полотенце, смоченное водой, приятно холодило кожу, и я чувствовал, как пренеприятный стук в висках понемногу утихает. Чтобы избавиться от влажной тошнотворной духоты в комнате, я распахнул окно. Солнце ослепило меня, а воробьи на улице заверещали так сильно, будто, сговорившись, решили навечно лишить меня слуха. К моему удивлению, от свежего воздуха головокружение мое усилилось, стены поплыли, и я снова опустился на кровать.
Провалявшись в постели без сколько-нибудь связных мыслей в голове еще около четверти часа, я все же заставил себя подняться и одеться: к обеду мне надлежало появиться у Надежды Кирилловны, и исчезновение мое могло быть истолковано как провинциальная невоспитанность. Допустить подобного было никак нельзя.
Одернув на себе сюртук и поправив булавку на галстуке, я несколько раз провел щеткой по волосам, взял шляпу и вышел из номера. Ощущая некоторую неловкость за свое ночное возвращение в гостиницу, я хотел было незаметно прошмыгнуть мимо бородатого, но безусого швейцара, стоявшего внизу в длинной ливрейной шинели, но проделать этот фокус мне не удалось: швейцар, приподняв фуражку, окликнул меня, а затем подал мне на серебряном подносе сложенный вчетверо лист бумаги. Внутри крупными размашистыми буквами были написаны имя и адрес Данилевского.
Надежда Кирилловна встретила меня, как и в прошлый раз, со сдержанной приветливостью. Аглая где-то задерживалась, и обед у нас с тетушкой прошел наедине.
– Я совсем не удивлена тому, что Аглая опаздывает, – сказала Надежда Кирилловна, ножом намазывая на калач тонкий лепесток масла. – Олимпиада Андреевна позвали ее на разбор приданого, а это, сами понимаете, дело небыстрое и для молодых девушек дюже завлекательное! Пока все переберешь да пересмотришь, и во времени потеряешься. А с подругой оно, конечно, веселей. Уж Аглае-то любая радость сейчас на пользу, да и Липе полезно – она тоже от сватовства устала. Родители уж год как с женихом имущество невестино не обговорят: то одно, то другое! Сложное это дело – свадьба. Ох, сложное.
Горячие дымящиеся щи в моей тарелке, только что налитые серебряным половником из прелестной бело-голубой фарфоровой супницы, вдруг совершенно неожиданно перестали мне казаться такими уж вкусными.
Дождавшись окончания обеда, я распрощался с тетушкой до завтрашнего оглашения завещания. Мне нужно было выполнить еще кое-какие поручения.
Прежде всего я отнес письмо княгине Багрушиной, старинной матушкиной приятельнице, жившей у церкви Никиты Великомученика в Толмачах в большом каменном доме с причудливой крышей и широкими воротами. Затем я заглянул к своему двоюродному деду Илье Осиповичу Савельеву, почтенному старцу, небольшой добротный дом которого я отыскал тут же в Татарском переулке. Илья Осипович жил уединенно и много времени своего проводил при церкви. За приятной душевной беседой дед угостил меня ароматным травяным чаем, и последняя моя головная боль – последствие вчерашних авантюр – улетучилась.
Теперь путь мой лежал в замоскворецкие торговые ряды. На этот раз целью моего визита стала закупка разного рода скарба, коего моя матушка составила целый список.
На рынке я наконец-то почувствовал себя в своей тарелке. Окунуться в знакомую круговерть торга и азарта было приятно. И пусть московские лавочники были в разы крикливее и говорливее самарских, но в искусстве коммерции, я уверен, им до наших было далековато – иначе едва ли мой покойный дядя смог бы сколотить в Москве свое миллионное состояние.
Здесь все было как и на любом торгу: цены ломили впятеро, лежалый товар хвалили громче, чем свежий. В суконном ряду худшим тканям приписывалось французское или английское происхождение, и несведущие обыватели расхватывали их не задумываясь. Отмеряли ткани продавцы тоже не в ущерб себе: различные хитрости позволяли приказчикам выгадывать приличные куски материи в свою пользу.
Поторговавшись в одной лавке, я сбил цену на приглянувшуюся мне тонкую шерстяную ткань почти вдвое, поэтому закрыл глаза на то, что меривший ее приказчик «ошибся» на пару локтей. Когда же во втором отрезе я не досчитался уже локтя четыре, если не более, стало понятно, что с благотворительностью пора заканчивать. Отрез мне перемерили заново.
Отправив посыльного с покупками в гостиницу, я продолжил изучать столичную торговлю. Вдоволь насмотревшись и наслушавшись, я уже собирался покинуть этот людской водоворот, но заметил вывеску, на которой крупными угловатыми буквами было написано: «Савельевские меха». Вероятно, это была одна из шести лавок моего покойного дядюшки.
Я открыл резную дверь и вошел внутрь. В лавке было душно от тяжелого запаха меха и звериных кож. В дальнем углу у прилавка я приметил двоих: долговязого сутулого приказчика в белой сорочке с конторскими нарукавниками и черном жилете, а напротив него – бледного худого молодого дворянчика в дорогом темном костюме.
– Стратон Игнатьевич, – мягким и вкрадчивым голосом говорил дворянчик, покручивая тонкий ус, – не забудьте: вот этот заказ – княжне Лантовой, а вот этот вы мне отправьте. И запишите все на мой счет. Да, полагаю, вы зайдете к моему брату?
– Князь изволили пригласить меня к себе в начале будущей недели, – негромко ответил приказчик, перегнувшись через прилавок. – Обещали-с принять. Подорожная готова, во вторник отбываю.
– Вот и чудно! – Его собеседник мягко хлопнул по столешнице рукой, обтянутой тонкой лайковой перчаткой, и повернулся было к двери.
– Ваше сиятельство, – остановил его приказчик, – прикажете княжне просто сверток доставить или, быть может, с цветами? Могу букет роз от Хлюдова присовокупить.
– Что ж, это вы хорошо придумали! Добавьте. Только не пишите на карточке: «Кобрин». Просто литеру «К» выведите, и все. Так пикантнее.
– Не извольте беспокоиться. – Стратон Игнатьевич, сопроводив своего посетителя к выходу, услужливо распахнул перед ним дверь.
Когда тот ушел, приказчик обернулся ко мне:
– Чего изволите, сударь?
– Хочу… на товар взглянуть да цену узнать… – отчего-то запнулся я.
– За смотр денег не беру, хотя пора бы уже, а то все только смотрите, – проворчал приказчик.
Я, немного оторопев от подобной неприветливости, с показной придирчивостью пощупал шкуры и кожи, спросил цены, потом поцокал языком, деловито хмыкнул, кашлянул и, в душе надеясь, что моя поспешность не привлекла внимание, вышел на улицу.
Случайно подслушанный мною отрывок разговора чрезвычайно взволновал меня. Приказчик Савельева, по всей видимости, подыскал себе новое место и, таким образом, теперь поставит мою тетушку и Аглаю в еще худшее положение. Я пробивался сквозь рыночную толпу, и чувство обиды за семейство переполняло мою душу. Что же, теперь верные, казалось бы, люди будут разбегаться вместо того, чтобы помочь наладить дела тетушке или другим наследникам? Предатели!
Вернувшись в подавленном состоянии в гостиницу, я хотел было написать матушке письмо, дабы рассказать об увиденном и услышанном, однако решил дождаться завтрашнего оглашения завещания и тогда уже обстоятельно написать обо всем сразу. Я сел за стол, взял карандаш, вынул из кармана сюртука свою небольшую записную книжку в кожаном переплете цвета черного кофе и черкнул в ней несколько строк. Но этого мне показалось мало. Очень хотелось выговориться. Мой взгляд упал на случайно вынутый вместе с книжкой листок бумаги. Я вспомнил: это была записка с адресом Данилевского.
Таблички с названиями улиц встречались мне по пути крайне редко, а иные указатели и вовсе отсутствовали. Но, на мое счастье, из ограды стоявшей неподалеку маленькой нарядной церкви вышел священник, и я обратился к нему. Расчет мой полностью оправдался: батюшка, в силу своего занятия прекрасно знавший все дома в округе, подробно и доходчиво указал мне дорогу.
Многочисленные ответвления кривых переулков теперь не путали меня, и вскоре я вышел к нужному дому. Это был двухэтажный деревянный особняк, где, как написал Данилевский, его семейство занимало верхние комнаты. Пройдя через малые ворота во внутренний двор, я постучал в дверь.
Наконец мне открыли. На второй этаж вела дубовая, потемневшая от времени лестница. Поднимаясь по ней, я услышал, как сверху загремел низкий, с хрипотцой, мужской голос:
– Это что за номер такой? Такие же вот журнальчики мои люди в сомнительных трактирах находят, а теперь и ты разжился? Крамольная литература в моем доме? Восхитительно! Чем, племянник, так тебе мое место не по нраву? Вот не станет его, и кто, ты скажи, будет платить за дом, за стол, за учебу твою, а? Куролесить ты мастак, а отвечать-то готов, карбонарий? Не понимаешь, чем дело пахнет?
В ответ послышался голос Данилевского:
– Журнал мне этот в трактире просто подвернулся, я и взял из любопытства. Я же не знал, что вы, дядя, обыск учините! Стал бы я тогда вас расстраивать…
– Ты, щегол, еще подерзи мне! – Хриплый голос звучал уже спокойнее. – Я вот профессора Крылова намедни встретил. Вы, голубчик, лоботряс!
– Неправда! – возмутился в свою очередь племянник.
– А в том трактире, откуда журнальчик, ты, поди, лекцию слушал?
– Я, дядюшка, у профессора Крылова на хорошем счету. Но помилуйте: не все же время я должен проводить за книгами?!
– Влипнешь ты, Андрей! Хоть бы вот с этим журналом. Забирай, и чтоб духу его тут не было!
Дверь отворилась, и Данилевский появился на лестнице. Увидев меня, он поднес палец к губам и увлек меня вниз.
– Не лучшее время для представления новых друзей, – развел он руками на улице. – Дядя у меня, конечно, личность выдающаяся, но как начнет нравоучения читать – спасу нет!
Данилевский смял злосчастный журнал и бросил его в сточную канаву.
– Ты уже осмотрелся в городе? – спросил он. – Хочешь, покажу тебе еще одно замечательное заведение?
– Нет уж, уволь, – поморщился я. – Мой покойный дядя тоже был выдающейся личностью, и завтра мне предстоит важное дело: завещание его оглашают. Надо будет соответствовать.
– Тогда возьмем квасу.
Мы присели за столик у входа в ближайший трактир. Половой в кипенно-белой рубахе, подпоясанной шнуром с кистями, принес нам две большие кружки с темным квасом и маленькую вазочку с баранками.
– Ты не знаешь часом, кто такой князь Кобрин? – как бы между делом спросил я.
– Зачем это тебе? – Андрей закашлялся и отставил кружку. – Мало вчера приключений было?
– Да видишь ли, я случайно столкнулся с ним в лавке и узнал, что князь сманивает приказчика моего дяди.
– Дяди? Это того, про которого ты говорил? Того, чье завещание?
– Ну да.
– Князь в лавке переманивает приказчика. Чепуха какая-то. Постой, а как звали дядю-то?
Я назвал имя.
Данилевский присвистнул:
– Ты племянник миллионщика Савельева?
– Да.
– Вот это переплет!
– А что здесь удивительного?
– Да так… Экий занятный случай: неожиданно и совсем случайно встретить в большом городе племянника человека, о котором вот уже несколько недель судачит вся Москва.
В глазах Данилевского я разглядел искры любопытства.
– Стало быть, завтра огласят завещание? На это стоит посмотреть, клянусь весами Юстиции! Там, наверное, будет полгорода.
– Ты не рассказал мне о Кобрине.
– Штука в том, что миллионщик Савельев долгое время служил у Кобриных управляющим, так что случай со слугами вполне объясним. С кем же из князей ты столкнулся?
– Не имею понятия. Захожу в савельевскую лавку, а там какой-то хлыщ с усиками с приказчиком дела обсуждает, и тот к нему: «Ваше сиятельство», – а этот и фамилию говорит. А фамилия – Кобрин!
– Хлыщ? Если ты и вправду видел князя, то это мог быть только Кобрин-младший. Однако… – Данилевский в задумчивости принялся за свой квас и баранки, лишь изредка поглядывая на меня.
Я тоже молчал.
Когда кружки опустели, мой спутник предложил:
– Прогуляемся до реки?
Мы зашагали к набережной. Некоторое время мы шли молча, но потом Данилевский заговорил:
– Князей Кобриных здесь все знают. Ты, вероятнее всего, видел младшего из трех братьев – Всеволода Константиновича. Про него много не расскажу, кроме того, что он известный щеголь, мот и вертопрах. А вот самый старший из них – Евгений Константинович Кобрин – это фигура-с: адъютант московского обер-полицмейстера.
– Самого обер-полицмейстера? Главы городской полиции?
– Ну да! Есть еще и средний, Дмитрий Константинович, – столичный светский лев, почти всегда в Петербурге.
– При дворе?
– Нет, большей частью при игорных домах. Поговаривают, что очень недурно в карты играет. Ну и возглавляет пару общественных заведений, или богаделен, или что-то в этом роде, не помню.
– Зачем же им приказчик моего дяди?
– Да черт его разберет! – Данилевский пожал плечами. – Они же все много лет на княжескую фамилию работали и наверняка в делах своих крепко связаны с Кобриными. Савельев несколько лет служил у князей, потом был у них управляющим. Говорят, именно здесь и родился его капитал. Более того, очень много финансовых дел с Кобриными у него было и в последнее время, незадолго до его собственной смерти. Так что, думаю, после оглашения завещания тебе, брат, придется с ними столкнуться.
Я задумался.
Мы вышли к реке. В воздухе запахло тиной.
– Меня еще одно смущает, – сказал я. – Мой дядя был миллионщиком, и его приказчик может рассчитывать на хорошую сумму в завещании. А я не знаю никого, кто с капиталом на руках и с большим опытом за плечами пошел бы в услужение вместо того, чтобы пустить собственные деньги в оборот. С капиталом да опытом самое время свое дело заводить – так все поступают. А тут, значит, он себе уже и место подыскал. Не сходится тут что-то. Но что?
Мы остановились у каменной лестницы, подножие которой омывали темные волны. Перед нами сонно текла река. Невдалеке какая-то пара, прогуливаясь, кормила чаек. Девушка в дорогом сером платье бросала в воздух кусочки хлеба, и ни одна крошка не достигала земли: птицы, пронзительно крича, подхватывали добычу на лету. На мостках чуть поодаль бабы полоскали на реке белье. Они о чем-то болтали между собой и смеялись, и их пустой смех вкупе с криками чаек и печальным звоном церковного колокола, принесенным ветром откуда-то с того берега, почему-то сеял во мне тревогу.
– Слухов о старшем брате Кобрине ходит много, и все они дурного свойства, – продолжил Данилевский. – Про любовь ко всякого рода мздоимствам, злоупотреблениям и подношениям можно и не говорить. Именно его торговыми делами руководил твой дядя; пусть уже лет десять прошло, как он перестал быть главным управляющим Кобриных, совсем от дел он так и не отошел. И как поговаривают, капиталы князей тоже всегда участвовали в его собственных предприятиях.
Студент сел на скамейку и закурил папиросу.
– Да, есть еще одна тонкость, – помахал он в воздухе обгоревшим черенком фосфорной спички, – отец братьев Кобриных, князь Константин Евгеньевич, был игроком, и неудачливым. В счет колоссальных долгов он раздал все свое состояние соседям-картежникам и заезжим любителям виста. Но вот что удивительно: когда долговая тюрьма уже казалась неминуемой, Савельев, будучи еще управляющим князя, исхитрился и поправил его дела. В некоем вечернем листке как-то тиснули заметку, что приказчик через подставных лиц, а также от своего имени выкупил почти все долговые векселя знатной фамилии. Положение князя было общеизвестным, так что его финансовые обязательства продавали в полцены, а может, и того меньше. Одним их предъявлением к оплате твой дядюшка мог бы сделать банкротами всю княжескую семью. И это был бы их окончательный крах. Чуешь?
Я отрицательно покачал головой.
Данилевский искоса посмотрел на меня, выпустил в вечернее небо облако табачного дыма и вздохнул:
– Ничего, позже поймешь. В итоге никаких векселей он к оплате не предъявлял, но из управляющих ушел. Незадолго до того, как старый князь окончательно спился и умер от апоплексического удара, братья Кобрины все свои доходы вдруг стали вкладывать исключительно в савельевские предприятия. Следующие несколько лет стали временем расцвета состояния Савельева. Кобринские финансы тоже, представь себе, выправились.
– Как же так? Они же были полностью разорены.
– Так все долговые бумаги оказались у Савельева, а потому земли, деревни да несколько заводов не пошли с молотка, а приносили потихоньку прибыль. Только теперь старый князь не мог свободно ими распоряжаться: захочет лес или фабрику какую продать, чтоб денег выручить, а Савельев уже на векселя намекает, и снова банкротство дамокловым мечом висит. А Петр Устинович все княжеские доходы, вместе со своими, разумеется, в выгодные ему предприятия вкладывает: в сталелитейные и судостроительные заводы, в лесозаготовки и рыбные промыслы, в производство спирта и крупные винокурни. Это же миллионы и миллионы рублей прибытка! Причем порой он пользуется не только княжескими деньгами, но и высоким княжеским именем в таких делах, в какие его самого с его купеческим происхождением просто не допустили бы. А тут все двери открыты. В таких вещах ведь что главное?
Я лишь промямлил что-то нечленораздельное.
– Правильно, – согласился Данилевский, – оборотный капитал. Чем больше в верное дело вложишь, тем больше куш. Ну и наверняка он от прибылей своих отдавал князьям далеко не половину. Думаю, много меньше. В общем, не в ущерб себе работал управляющий.
Я почесал в затылке:
– Откуда ты все это знаешь?
– Газеты, городские анекдоты, кабацкие разговоры… Земля, как говорится, слухами полнится. – Данилевский бросил свой окурок в сухую пыль и наступил на него каблуком сапога. – А еще, – он вдруг пристально взглянул на меня и понизил голос, – по городу ходят другие слухи…
Я вздрогнул:
– Это какие же?
– Нехорошие, брат! Поговаривают, что миллионщика Савельева отравили…
Глава III
В большом зале Гражданской палаты было тесно, душно и пыльно. Пыль была повсюду: на потертой обивке стульев, на бесконечных стопках бумаг, которые приносили и уносили, на гардинах, некогда белых, а теперь песочного оттенка, на одежде толпившихся здесь людей. Солнечные лучи, льющиеся из высоких затворенных окон, подсвечивали висевшие в воздухе мелкие пылинки, отчего казалось, что в зале стоит туман сродни утренним болотным испарениям.
Вокруг меня сгрудилась куча народу. Никто не пытался сесть на первые места, так как они негласно оставались за нами, членами семейства, но задние ряды публика забивала бойко и шумно. Был здесь и полицейский околоточный надзиратель, ибо сегодня оглашалось завещание именитого жителя его околотка, и некоторые видные купцы, и несколько приказчиков и купчиков рангом пониже. Я заметил в толпе и уже знакомого мне франтоватого худощавого дворянчика из дядиной лавки – князя Кобрина. Он, ухмыляясь, стоял поодаль в компании таких же хорошо одетых молодых людей и девиц. Видимо, театральный сезон заканчивался, труппы служителей Мельпомены разъезжались на гастроли, и теперь для праздной молодежи, подобной князю с его спутниками, такие собрания тоже становились развлечением. Во всяком случае, билеты на заседания, как говорили, раскупались чрезвычайно охотно. Бог мой, какая же пошлость!
Вскоре из высокой двери в зал вышел немолодой поверенный в черном строгом костюме с большой дубовой шкатулкой в руках. В шкатулке, должно быть, лежало завещание.
Все затихли. В воздухе слышался лишь шелест вееров, временами дополняемый чьим-то кашлем с задних рядов, да еще у стены кто-то все шуршал кульком, по всей видимости с какой-то снедью – орехами или леденцами.
Поверенный поставил свою ношу на стол. Затем он торжественно оглядел зал, одновременно протирая черной бархатной салфеткой золотое пенсне, и, нацепив его себе на нос, занял, наконец, свое место за столом. Солнечные лучи, струящиеся из окна у него за спиной, ореолом светились в его тонких седых волосах, окаймлявших поблескивавшую от пота лысину.
В первом ряду перед поверенным сидели только я, Надежда Кирилловна и Аглая. Совершенно бесшумно в наш ряд, только чуть поодаль от нас, подсел и долговязый приказчик-управляющий – тот самый, которого я накануне видел в лавке.
Крышка шкатулки распахнулась. В зале наступила гробовая тишина.
У меня засосало под ложечкой.
Поверенный вытащил на свет сложенный втрое лист бумаги. Кашлянув, он развернул документ и нараспев, как дьякон на клиросе, громким голосом заговорил:
– Оглашается духовная грамота почетного гражданина Российской империи, купца первой гильдии Петра Устиновича Савельева.
Я приготовился было слушать чтение длиннейшего списка, в котором, как это принято в купеческих семьях, обычно подробно описана вся домашняя утварь, иконы, пожертвования различным богадельням и общественным советам. Но, к моему удивлению, текст оказался гораздо короче:
– «Все движимое и недвижимое имущество, весь денежный капитал в делах, оборотах или долгах предоставляю в равных долях в неприкосновенную собственность моих компаньонов – их сиятельств Евгения Константиновича, Дмитрия Константиновича и Всеволода Константиновича Кобриных. Обязую упомянутых лиц также совершить следующие выдачи из моего капитала: жене моей, Надежде Кирилловне Савельевой, передать во владение мой дом в Замоскворечье, ее личные украшения и пятьдесят тысяч рублей в неприкосновенную собственность; дочери же моей, Аглае Петровне Савельевой, – десять тысяч рублей по достижении ею двадцатилетнего возраста».
Барсеньевы в тексте завещания не упоминались.
Меня бросило в жар. Стало нестерпимо душно. Сердце билось неимоверно. Значит, все кончено?
Оглядевшись, я заметил в последнем ряду младшего Кобрина: он ухмылялся в свои реденькие усики и, казалось, с затаенным удовольствием наблюдал за реакцией окружающих. А зал сперва на несколько мгновений замолчал, будто уясняя услышанное, а потом по толпе пробежал ропот. Он словно вывел Надежду Кирилловну из недолгого оцепенения, и та, недовольно дернув плечами, поднялась с места.
Впрочем, сей факт не привлек к себе никакого внимания: поверенный уже дочитал очень лаконично изложенное завещание и кивнул головой с чувством выполненного долга.
Все в зале разом заскрипели стульями, заговорили, засмеялись. Некоторые бросились поздравлять младшего Кобрина, и мне было гадко созерцать эту липкую, льстивую, услужливую радость.
Надежда Кирилловна, окинув взглядом зал так, что шум стих, поправила на плечах шаль и подошла к столу. Мы с Аглаей последовали за ней.
– Когда же, любезный Игнатий Фролыч, мой муж подписал сию бумагу? – спросила поверенного вдова.
– За день до кончины своей, Надежда Кирилловна. Особливо меня для такого случая вызвал.
– Да, все верно, это рука Петра Устиновича. – Тетка, взяв лист, рассматривала аккуратные округлые буквы завещания. – Ну что же, я его на том свете спрошу, за что он мне такой позор учинил. А вы? Как вы-то поставили подпись под подобным документом? Вы ведь в нашем доме всегда столовались, я вас за друга почитала…