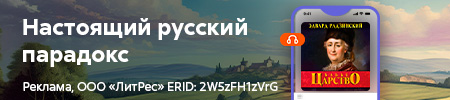0
0Истины в моем сердце. Личная история
После Беркли тетя Мэри устроилась преподавать в Университет Сан-Франциско, где продолжала прославлять и возвышать культуру черных. В университете был студенческий экспериментальный колледж, и в 1966 году еще один близкий друг моей матери, которого я знала как дядю Обри, читал в нем первый в истории курс, посвященный культуре черных. Кампус был испытательным полигоном для пересмотра смысла и содержания высшего образования.
Таковы были друзья моей матери. В стране, где у нее не было семьи, они стали ее семьей, а она была семьей для них. Практически сразу после приезда из Индии она выбрала черную общину и была принята ею. Связь с общиной была основой новой американской жизни мамы.
Кроме тети Мэри, ближайшим доверенным лицом моей матери была тетя Ленор. Я также бережно храню память об одном из наставников мамы, Говарде, блестящем эндокринологе, который взял ее под свое крыло. Когда я была маленькой, он подарил мне жемчужное ожерелье, которое привез из поездки в Японию. (С тех пор жемчуг стал одним из моих любимых украшений!)
Я также была очень близка с маминым братом, Балу, и двумя ее сестрами, Саралой и Чинни (которую я называла читти, что означает «младшая мама»). Они жили за много тысяч миль от нас, и виделись мы редко. Тем не менее благодаря телефонной связи, периодическим поездкам в Индию, письмам и открыткам наше чувство семьи, состоявшее из близости, комфорта и доверия, преодолевало расстояния. Именно так я впервые по-настоящему узнала, что можно иметь очень близкие отношения с людьми, даже если не общаешься с ними ежедневно. Мы всегда были рядом друг с другом, независимо от того, какую форму принимало общение.
Моя мать, бабушка и дедушка, тети и дяди внушали нам гордость за наши южноазиатские корни. Наши классические индийские имена восходят к нашему наследию, и мы были воспитаны с глубоким пониманием индийской культуры и в благодарности к ней. Все мамины слова любви или разочарования произносились на ее родном языке, и мне кажется, что это хорошо. Чистота этих эмоций и есть то, что составляет для меня образ матери.
Мама прекрасно понимала, что воспитывает двух черных дочерей. Она понимала, что ее новая родина будет видеть нас с Майей черными девочками, и была полна решимости сделать все, чтобы мы выросли уверенными, гордыми черными женщинами.
Примерно через год после того, как родители разошлись, мы переехали на верхний этаж двухэтажного дома на Бэнкрофт-уэй в равнинном районе Беркли. Это был район сплоченных рабочих семей, которые были сосредоточены на том, чтобы хорошо делать свою работу, оплачивать счета и поддерживать друг друга. Это было сообщество, которое вкладывалось в своих детей, место, где люди верили в основной принцип американской мечты: если ты будешь усердно работать и поступать правильно по отношению к миру, твои дети будут жить лучше, чем ты. Мы не были богаты в финансовом плане, но ценности, которые мы усвоили, обеспечили нам другой вид богатства.
Утром, перед тем как отправиться на работу в свою лабораторию, мама собирала нас с Майей. Обычно она давала нам коктейль Carnation Instant Breakfast. Мы могли выбирать вкус – шоколад, клубника или ваниль. По особым случаям мы получали Pop-Tarts[8]. С ее точки зрения, завтрак не был поводом для суеты.
Она целовала меня на прощание, и я шла до угла и садилась в автобус до начальной школы Thousand Oaks. Только позже я узнала, что мы были частью национального эксперимента по десегрегации, когда чернокожие дети из рабочего класса с равнин ехали на автобусах в одном направлении, а более богатые белые дети с холмов Беркли – в другом. В то время я понимала только одно: большой желтый автобус – это тот способ, которым я добираюсь до школы.
Глядя на фотографию своего первого класса, я вспоминаю, как чудесно было расти в такой разнообразной среде. Поскольку ученики приезжали со всей округи, мы были очень пестрой группой: некоторые выросли в государственном жилье, а другие были детьми профессоров. Помню, как мы отмечали в школе праздники разных народов и культур, а также учились считать до десяти на нескольких языках. Помню, как родители, включая мою маму, добровольно вызвались вести с детьми занятия, на которых ученики получали знания в области науки и искусства. Миссис Фрэнсис Уилсон, моя первая учительница, была глубоко преданна своим ученикам. Так, когда я выпускалась из юридического колледжа Калифорнийского университета в Гастингсе, миссис Уилсон была среди собравшихся и поддерживала меня.
Когда у нас с Майей заканчивались уроки, мама часто еще была на работе, поэтому мы отправлялись к Шелтонам, которые жили через два дома. Мама знала их через дядю Обри, нас с ними связывали давние отношения любви и заботы.
Реджина Шелтон, родом из Луизианы, была тетей дяди Обри. Она и ее муж Артур из Арканзаса владели детским садом. Сначала сад располагался в подвальном помещении их собственного дома, а позже под нашей квартирой. Шелтоны посвятили свою жизнь тому, чтобы дать детям нашего района самый лучший старт в жизни. Их детский сад был маленьким, но уютным, с плакатами таких лидеров, как Фредерик Дуглас[9], Соджорнер Трут[10] и Харриет Табман[11] на стене. Первым Джорджем Вашингтоном, о котором мы с Майей узнали в детстве, был Джордж Вашингтон Карвер[12].
Мы до сих пор смеемся над тем, как Майя впервые услышала от учителя в классе о президенте Джордже Вашингтоне и с гордостью подумала про себя: «Я его знаю! Это он работал с арахисом!»
Шелтоны также вели у себя дома группу продленного дня, и именно там мы с Майей проводили свое время. Мы называли это просто «пойти в дом». По дому всегда бегали дети, они играли и много смеялись. Мы с Майей невероятно подружились с дочерью миссис Шелтон и ее воспитанниками; мы воображали, что собираемся пожениться с участниками The Jackson Five[13] – Майя с Майклом, а я с Тито. (Люблю тебя, Тито!)
Миссис Шелтон, элегантная и радушная в равной мере, быстро стала для нас с Майей второй матерью. Ее дом отличался традиционным южным гостеприимством. Чего стоили одни фирменные кексы и печенье, которые я обожала. Она была глубоким человеком – исключительно умна и необычайно добра.
Никогда не забуду, как однажды сделала лимонные пирожные[14], чтобы угостить друзей. Я потратила целый день на приготовление пирожных по рецепту, который нашла в одной из маминых поваренных книг. Они получились очень красивыми, и мне не терпелось ими похвастаться. Я положила их на тарелку, накрыла пищевой пленкой и пошла в дом миссис Шелтон, где она сидела за кухонным столом, потягивая чай и весело болтая со своей сестрой, тетей Би, и моей матерью. Я с гордостью продемонстрировала им свое творение, и миссис Шелтон откусила большой кусок. Оказалось, что вместо сахара я положила соль, и не знала об этом, поскольку сама ничего не пробовала.
«Э-э-э, милая, – произнесла миссис Шелтон со своим изящным южным акцентом. Губы ее слегка скривились. – Это восхитительно… может быть, только многовато соли… но действительно восхитительно». Я ушла без мысли о том, что потерпела неудачу. Я ушла, думая, что проделала большую работу и совершила лишь одну маленькую ошибочку. Именно такие моменты помогли мне выработать естественное чувство уверенности. Я верила, что способна на все.
Миссис Шелтон многому меня научила. Она всегда была готова протянуть руку помощи матерям, которые нуждались в совете или поддержке, или даже просто в дружеских объятиях, потому что это именно то, что может сделать каждый. У нее было много воспитанников, и она удочерила девочку по имени Сэнди, которая стала моей лучшей подругой. Она всегда видела в людях потенциал. Это было еще одно качество, которое мне в ней нравилось. Она вкладывала душу в соседских детей, которые росли как сорняки, и делала это с надеждой, что эти неблагополучные мальчики и девочки смогут стать великими. И все же она никогда не говорила о своем стремлении и не акцентировала на нем внимания. Для нее самой ее деятельность не была чем-то экстраординарным, она была просто воплощением ее ценностей.
Когда я возвращалась домой от Шелтонов, мама обычно читала, или работала над своими записями, или готовила нам ужин. Если не считать завтрака, она любила готовить, а я любила сидеть с ней на кухне, смотреть, вдыхать ароматы и есть. У нее был огромный китайский тесак, которым она рубила продукты, и шкаф, полный специй. Мне очень нравилось, что бамия[15] может стать и африканским, и индийским блюдом, в зависимости от того, какие специи выбрать; мама добавляла сушеные креветки и колбасу, чтобы сделать ее похожей на гамбо[16], или жарила ее с куркумой и горчичными семенами.
Мама готовила как ученый. Она всегда экспериментировала – жаркое из говядины с устрицами в один вечер, картофельные блинчики по рецепту еврейской кухни – в другой. Даже мой обед был лабораторией ее творчества: в автобусе мои друзья, которым завернули сэндвичи с болонской колбасой или с арахисовым маслом и джемом, взволнованно спрашивали: «Камала, а у тебя что?» Я открывала коричневый бумажный пакет, который мама всегда украшала смайликом или дудлами: «Сливочный сыр и оливки на ржаном хлебце!» Признаю, что не каждый эксперимент был успешным – по крайней мере не для моего детского вкуса. Но что бы там ни было, мой обед был другим, и это делало его особенным, потому что особенной была моя мама.
Готовя, она часто ставила пластинку Ареты Франклин, а я танцевала и пела в гостиной, как будто это была моя сцена. Мы все время слушали песню «To Be Young Gifted and Black» в исполнении Ареты – гимн гордости черных, который впервые спела Нина Симон[17].
Наши разговоры чаще всего происходили на кухне. Приготовление и поедание пищи были среди тех вещей, которые наша семья, как правило, делала вместе. Когда мы с Майей были маленькими, мама иногда подавала нам блюдо, которое называла «шведским столом». Она вырезала кусочки хлеба формочкой для печенья и выкладывала их на поднос рядом с горчицей, майонезом, маринованными огурцами и причудливыми зубочистками. Между ломтиками хлеба мы раскладывали то, что осталось в холодильнике от блюд предыдущего вечера. Мне потребовались годы, чтобы понять, что блюда «шведского стола» на самом деле были просто объедками. Мама умела превратить в приключение даже обыденность.
И еще мы много смеялись. Мама очень любила кукольное шоу «Панч и Джуди», где Джуди гонялась за Панчем со скалкой. Она так хохотала, когда делала вид, что так же гоняется за нами по кухне со своей скалкой.
Но, конечно, смеялись мы не всегда. Суббота была «днем домашних дел», и у каждой из нас были свои обязанности. Мама умела быть жесткой. Она не терпела баловства. Мы с сестрой редко заслуживали похвалы за поведение или достижения, которых от нас ожидали. «С чего бы мне аплодировать тебе за то, что ты и так должна была сделать?» – наставляла она меня, если я пыталась выудить из нее комплименты. И если я возвращалась домой, чтобы рассказать о драматических подробностях случившегося, сочувствующего собеседника мне было не найти, мама уж точно им не была. Ее первой реакцией было: «Ну и что ты сделала?» Оглядываясь назад, я вижу, что она пыталась донести до меня то, что я обладаю силой и средствами. Справедливо, но это все равно сводило меня с ума.
Однако эта жесткость всегда сопровождалась непоколебимой любовью, преданностью и поддержкой. Если у Майи или у меня был неудачный день, или если погода слишком долго была плохой, она устраивала то, что любила называть «не-деньрожденной вечеринкой», с «не-деньрожденным» тортом и «не-деньрожденными» подарками. Или готовила что-нибудь из наших любимых блюд – шоколадные блинчики или ее особое «печенье К» («К» для Камалы). Часто она доставала швейную машинку и шила одежду для нас или для наших Барби. Мама даже позволила нам с Майей выбрать цвет семейного автомобиля – «Доджа», на котором она повсюду ездила. Мы выбрали желтый (наш любимый цвет в то время), и даже если она пожалела, что дала нам право принять такое решение, то никогда не показывала этого. (Зато нашу машину всегда было легко найти на стоянке.)
Три раза в неделю я ходила к миссис Джонс, которая жила на нашей улице. Она была пианисткой классической школы, но для чернокожей женщины в этой области было немного вариантов для развития, и поэтому она стала преподавателем по фортепиано. И она преподавала серьезно и строго. Каждый раз, когда я смотрела на часы, чтобы узнать, сколько времени осталось до конца урока, она хлопала меня по пальцам линейкой. В другие вечера я приходила к тете Мэри, и мы с дядей Шерманом играли в шахматы. Он был отличным шахматистом, и ему нравилось говорить со мной о серьезных областях применения навыков этой игры: она учит быть стратегом, иметь план, продумывать все на несколько шагов вперед, предсказывать действия противника и приспосабливать к этим действиям свои, чтобы перехитрить его. Время от времени он позволял мне побеждать.
По воскресеньям мама отправляла нас в Церковь Бога на 23-й авеню, и мы вместе с другими детьми набивались в кузов фургона миссис Шелтон. Мои самые ранние воспоминания об учении Библии были о любящем Боге, который просил нас «говорить за тех, кто не может говорить за себя» и «защищать права бедных и нуждающихся». Именно здесь я узнала, что вера – это глагол; я считаю, что мы должны жить своей верой и проявлять веру в действии.
Мы с Майей пели в детском хоре, где моим любимым гимном был «Наполни мою чашу, Господи». Помню один День матери, когда мы читали оду мамам. Каждый из нас представлял одну из букв слова MOTHER. Я изображала букву «Т» и стояла гордо, раскинув руки в обе стороны. «Т – Так она заботится обо мне и любит меня всей душой».
Мой любимый вечер недели был в четверг. По четвергам нас всегда можно было найти в скромном бежевом здании на углу тогдашней Гроув-стрит и Дерби. Когда-то там был морг, но в здании, которое знала я, бурлила жизнь: это был дом первого культурного центра черных – «Знак радуги».
«Знак радуги» представлял собой культурное пространство, в котором были театр, кинотеатр, художественная галерея, танцевальная студия и многое другое. Там был ресторан с большой кухней, и кто-нибудь всегда готовил там что-нибудь вкусненькое – тушеную курицу, фрикадельки в соусе, засахаренный ямс[18], кукурузный хлеб, персиковый коблер[19]. Днем можно было посещать занятия по танцам и иностранным языкам, а также театральные мастер-классы и занятия по искусству. По вечерам здесь проходили показы, лекции и выступления выдающихся чернокожих мыслителей и лидеров современности – музыкантов, художников, поэтов, писателей, кинематографистов, ученых, танцоров и политиков – мужчин и женщин, идущих в авангарде американской культуры и критической мысли.
«Знак радуги» был детищем импресарио Мэри Энн Поллар, которая основала центр вместе с десятью другими чернокожими женщинами в сентябре 1971 года. Название было навеяно стихом из африканского спиричуэла «Не плачь, Мэри»; строки «Бог дал Ною знак радуги; нет больше воды, в следующий раз – пожар…» были напечатаны на клубной брошюре. Джеймс Болдуин[20], конечно, использовал эти проникновенные стихи в своей книге «В следующий раз – пожар»[21]. Болдуин был близким другом Поллар и постоянным гостем клуба.
Мы с мамой и Майей часто ходили в «Знак радуги». Все в округе знали нас и называли «Шамала и девочки». Мы были единым целым, командой. И когда мы появлялись, нас всегда встречали широкими улыбками и теплыми объятиями. «Знак радуги» имел общинную ориентацию, в нем царила особая атмосфера доверия. Это было место, предназначенное для распространения знаний, место, где обеспечивали поддержку. Неофициальным девизом центра стала фраза: «За любовь к людям». Семьи с детьми центр принимал особенно тепло – такой подход был отражением ценностей тех женщин, которые им руководили.
Поллар однажды сказала журналисту: «Во всем, что мы делаем, в лучших развлечениях, которые есть в нашем центре, содержится призыв: “Посмотри вокруг. Подумай об этом”». Специально для детей старшего школьного возраста в центре была организована программа, которая включала в себя не только художественное образование, но и детскую версию программы для взрослых, в рамках которой молодые люди могли встречаться и непосредственно взаимодействовать с приглашенными спикерами и исполнителями.
Район залива был домом для многих выдающихся черных лидеров и был особенным местом для черных. Люди приезжали сюда со всей страны. Это означало, что такие дети, как я, которые проводили время в «Знаке радуги», подвергались влиянию множества необыкновенных людей, которые показывали нам, кем мы можем стать. В 1971 году конгрессмен Ширли Чисхолм, изучая возможности для выдвижения своей кандидатуры на пост президента, нанесла нам визит. «Поговорим о силе!» «Неподкупные и непокорные» – обещал ее предвыборный лозунг. В «Знаке радуги» проводила чтения Элис Уокер, получившая Пулитцеровскую премию за роман «Цвет пурпурный». На чтениях выступала и Майя Энджелоу, первая чернокожая женщина – автор бестселлеров, ставшая популярной благодаря своей автобиографии «Я знаю, отчего птица поет в клетке». Когда мне было семь лет, в «Знаке радуги» выступала Нина Симон. Позже я узнала, что Уоррен Вайднер, первый чернокожий мэр Беркли, провозгласил 31 марта 1972 года Днем Нины Симон, чтобы отметить ее двухдневное посещение Беркли.
Мне нравилась «электрическая» атмосфера «Знака радуги» – смех, вкусная еда, энергия. Мне нравились мощные речи со сцены и остроумные, порой выходящие за грань, шутки зрителей. Именно здесь я узнала, что творческое самовыражение, честолюбие и интеллект – это круто. Именно тогда я поняла, что нет лучшего способа накормить чье-то сознание, чем объединить еду, поэзию, политику, музыку, танцы и живопись.
Именно в центре я видела логическое продолжение ежедневных уроков своей матери, именно там смогла представить себе, что меня ждет в будущем. Мама воспитывала нас в убеждении, что «слишком тяжело» – это неприемлемое оправдание, что быть хорошим человеком означает стоять за что-то большее, чем ты есть, что успех отчасти измеряется тем, чего достигли люди, которым ты помогал. Она говорила нам: «Боритесь с системами так, чтобы они становились более справедливыми, и не ограничивайтесь тем, что было всегда». В «Знаке радуги» я видела эти ценности в действии, эти принципы были применены. Это было воспитание гражданина – единственное, которое я знала и которое, как я предполагала, получают и все остальные.
Я была счастлива там. Но когда я училась в средней школе, нам пришлось уехать. Маме представилась уникальная возможность преподавать в Университете Макгилла в Монреале и проводить исследования в Еврейской больнице общего профиля[22]. Эта возможность обеспечивала взлет ее карьеры.
Однако для меня все было иначе. Мне было двенадцать лет, и мысль о переезде из солнечной Калифорнии в феврале, посреди учебного года, в чужой франкоязычный город, покрытый двенадцатифутовым слоем снега, мягко говоря, огорчала. Мама постаралась, чтобы это выглядело как приключение, и повела нас покупать наши первые пуховики и варежки, как будто мы собираемся исследовать великую северную зиму. Но мне было трудно смотреть на это под таким углом. Все стало еще хуже, когда мама сказала, что хочет, чтобы мы выучили язык, поэтому записала нас в школу для носителей французского языка Нотр-Дам-де-Неж – «Богоматерь Снегов», находящуюся по соседству.
Это был тяжелый переход, так как единственные французские слова, которые я знала, были из балетных классов, где мадам Кино, моя балетная учительница, кричала: «Demi-plié, и вверх!» Я часто шутила, что чувствую себя уткой, потому что весь день в новой школе я повторяла: «Quoi? Quoi? Quoi?» («Что? Что? Что?»).
Разумеется, я забрала с собой в Монреаль свое воспитание. Однажды мы с Майей устроили демонстрацию перед зданием школы, протестуя против того, что детям не разрешают играть в футбол на лужайке.
В конце концов я убедила маму позволить мне перейти в школу изящных искусств, где я пробовала играть на скрипке, валторне и барабане наряду с изучением истории и математики. Однажды мы исполнили песню «Мы свободны – ты и я»[23] от начала до конца.
К тому времени, как я перешла в старшую школу, я уже приспособилась к новой обстановке. Я все еще скучала по дому, по друзьям и семье и всегда с радостью возвращалась к ним летом и на каникулах, когда мы останавливались у отца или миссис Шелтон. Но к этому я привыкла. К чему я не могла привыкнуть, так это к чувству тоски по родине. Желание вернуться в родную страну меня не отпускало. В том, что в колледж я буду поступать дома, у меня не было никаких сомнений.
На свой выпускной я пригласила обоих родителей, хотя знала, что они не будут разговаривать друг с другом. Никогда не забуду, как сидела в первых рядах зрительного зала и оглядывалась на публику. Мамы нигде не было видно. «Ну где же она? – думала я. – Неужели она не пришла, потому что здесь отец?» Уже должны были начинать. И тут вдруг открылась задняя дверь аудитории и вошла мама (которая обычно ходила в лабораторию в джинсах и теннисках) в ярко-красном платье и на каблуках. Она никогда не позволяла ситуации взять над собой верх.
В старших классах я начала более конкретно задумываться о своем будущем – о колледже и что будет после него. Всегда знала, что буду строить карьеру: я видела удовлетворение, которое мои родители получали от своей работы. Я видела перед собой целый ряд выдающихся женщин (тетю Мэри, миссис Уилсон, миссис Шелтон и прежде всего свою мать – лидеров в своих областях) и те перемены, которые они вносили в жизнь других людей.
Несмотря на то что зерно упало мне в душу очень рано, не помню, когда именно я решила, что хочу стать юристом. Некоторые из моих любимейших героев были юристами: Тергуд Маршалл, Чарльз Хьюстон, Констанс Мотли – гиганты движения в защиту гражданских прав. Меня очень волновала справедливость как таковая, и я рассматривала закон в качестве инструмента, который может помочь добиться справедливости. Но думаю, больше всего меня привлекло в этой профессии то, как люди вокруг меня доверяли юристам и полагались на них. Дядя Шерман и наш близкий друг Генри были юристами, и всякий раз, когда у кого-то в семье или у соседей возникали проблемы, первое, что мы слышали, было: «Позвони Генри. Позвони Шерману. Они знают, что делать. Они знают, как с этим разобраться». Мне тоже хотелось так уметь. Хотелось быть тем человеком, которому звонят люди. Хотелось быть тем, кто может помочь.
Поэтому, когда дело дошло до колледжа, я решила сразу взять верный курс. А что может быть лучше, подумала я, чем альма-матер Тергуда Маршалла?
Я часто слышала истории о том, какое замечательное место Говардский университет, особенно от тети Крис, которая там училась. Это учебное заведение с необыкновенными традициями, которое крепло и процветало с момента своего основания спустя два года после Гражданской войны. Оно существовало в то время, когда двери высшего образования были в основном закрыты для чернокожих студентов. Оно держалось в период, когда сегрегация и дискриминация были законом страны. Оно работало, когда мало кто признавал потенциал и способность молодых чернокожих мужчин и женщин быть лидерами. Поколения студентов были воспитаны в Говардском университете, получив там образование, а также уверенность, необходимую для того, чтобы стремиться к новым высотам, и инструменты, чтобы совершить восхождение. Я хотела быть в их рядах – и осенью 1982 года переехала в Итон-Тауэрс, мое первое общежитие.
Всегда буду помнить, как, едва поступив на первый курс, вошла в аудиторию Крэмтона, где проходила профессиональная ориентация. Помещение было набито битком. Я стояла сзади у стены, смотрела по сторонам и думала: «Это рай!» Там были сотни людей, и все были похожи на меня. Некоторые из них были детьми выпускников Говардского университета, другие поступили в колледж первыми среди членов своих семей. Некоторые всю жизнь учились преимущественно в черных школах, другие долгое время были одними из немногих цветных в своем классе или в целом районе. Некоторые приехали из других городов, или были выходцами из сельских общин, или прибыли из стран Африки, стран Карибского бассейна и других мест, где селились члены африканской диаспоры.
Как и у большинства студентов университета, моим любимым местом для тусовки было пространство, которое мы называли Двором. Это была покрытая травой территория размером с городской квартал прямо в центре кампуса. В любой день можно было встать посреди Двора и увидеть справа от себя молодых танцоров, отрабатывающих движения, или музыкантов, играющих на инструментах. А с левой стороны можно было увидеть студентов с портфелями, выходящих из бизнес-школы, и студентов-медиков в белых халатах, возвращающихся в лабораторию. Здесь компания студентов сидит кружком и хохочет, а та группа глубоко погружена в дискуссию. Вот идут колумнист университетской газеты The Hilltop и звезда местной футбольной команды. А вот певец из госпел-хора с президентом математического клуба.