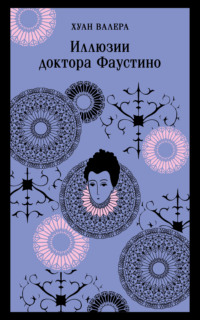
Иллюзии Доктора Фаустино
В один из погожих сентябрьских дней дон Хуан, Серафинито и я сидели у подножия каменного креста. Солнце уже скрылось за грядой холмов, образующих линию западного горизонта, и окрасило небо в золотые и пурпурные цвета. На долину легли тени, но колокольня и скалы, высившиеся позади селения, чудесно светились, отражая от своей полированной поверхности косые солнечные лучи. Только легкие розовые облачка нарушали безмятежную голубизну неба и тихо плыли куда-то, гонимые ласковым ветром. В более темной части небосвода, высоко над горизонтом, уже вставала бледная луна и мерцали одинокие звезды. В дальней стороне долины виднелась лента дороги, а за нею взгляд упирался в горную гряду. Повсюду царили мир и покой.
Большую часть здешней земли занимают оливковые рощи и виноградники; только дикие скалы, увенчивающие холмы, остаются невозделанными. Зеленые заборы из ежевики и агавы отделяют друг от друга земельные наделы и усадьбы. Только на самых влажных и плодородных участках в этих живых изгородях можно видеть жимолость, гранатовые деревья и кусты шиповника. В местах, защищенных от зимней стужи, растет и плодоносит смоква.
Урожай с полей был уже снят, и на черной земле желтели островки жнивья, кустики чертополоха. Под жарким солнцем жухлая трава стала сухой, как порох. Кое-где виднелись языки пламени; огонь бежал причудливой змейкой, оставляя позади себя черный след и клубы дыма.
Огромные пространства, занятые виноградниками, еще зеленели свежей, яркой листвой. Шел сбор винограда. По бесчисленным дорогам и тропам сюда двинулись арбы и телеги, чтобы забрать последний груз и отвезти его в винодельни, где утром он пойдет уже под пресс. Сборщики покидали плантацию и группами расходились по домам. То здесь, то там вспыхивала веселая песня; вдали слышался чей-то тоскующий голос: может быть, это погонщик мулов жаловался на одиночество, возвращаясь с караваном вьючных животных, или поденщик, стосковавшийся по дому.
Берега ручьев, орошающих долину, поросли ракитой, серебристым тополем, черным олеандром, камышом и дикой мятой. Садов здесь немного, и все они крохотные: площадь самого большого из них не превышает шестидесяти акров. Зато земля хорошо возделывается: на ней выросли гигантские ореховые деревья, пышные смоковницы, дающие самый сладкий в мире инжир, и множество других плодоносящих растений.
Самый полноводный ручей в округе протекает в четверти лиги от Вильябермехи, и девушки, которые стирали там белье, теперь тоже шли домой, неся корзины на голове, шли весело, задорно: движения их были свободны и изящны; короткие юбки из дешевого перкаля или еще более дешевой антекерской фланели плотно облегали сильные, красивые бедра.
Дон Хуан, словно зачарованный, наблюдал всю эту картину и, видимо, еще более укрепился в мысли, что и Вильябермеха, и ее окрестности – лучший уголок на земле. Волнение его возросло, когда он заметил облачко пыли на главной дороге. Воспоминания о лучших днях жизни нахлынули на него… Вскоре послышалось хрюканье всех регистров, от тенорового до басового, и тут же появилось розовое стадо свиней, ведомое шустрым мальчуганом лет пятнадцати. Каждый бермехинец имел в этом стаде дорогое его сердцу существо: пройдет время, и он сделает себе самому и своей семье вкусный подарок в виде ветчины, сала, колбас, сосисок, шпика и многих других продуктов; все это будет храниться в кладовых до случая, достойного быть отмеченным.
Мальчуган умело командовал своим войском и поддерживал образцовую дисциплину. Ни одна свинья не решилась бы самовольно отлучиться от стада. Но как только войско достигало первых домов, парнишка дудкой подавал сигнал, и животные разбегались рысью и галопом по улицам и проулкам; достигнув хозяйского дома, они опрометью проносились через двор, опрокидывая кувшины и бочки, и как вкопанные останавливались в хлеву, где их ждало уже вкусное пойло.
Когда дон Хуан справился с волнением, я не мог удержаться и сказал:
– Откровенно признаюсь – меня восхищает ваша любовь к Вильябермехе. Я понимаю: это ваша родина, и она вам нравится. Блеску и шуму Мадрида и Парижа вы предпочли сельское уединение и счастливы этим, И все-таки мне непонятно, как может человек, исколесивший весь мир, повидавший то, что другим бермехинцам и во сне не снилось, утверждать, что красивее Вильябермехи нет ничего на свете.
– Что же тут непонятного? – отвечал дон Хуан. – Когда я утверждаю, что Вильябермеха – лучшее место на земле, я просто хочу этим сказать, что таким оно мне представляется. Действительно, во время моих путешествий я видел бухту Рио-де-Жанейро с ее плодороднейшими берегами и островками, покрытыми вечнозеленой растительностью, и гигантские горы, окружающие ее, и вековые леса, апельсиновые и лимонные рощи, которые красиво ее обрамляют; я жил на плодородных берегах Ганга и Брамапутры, украшенных пагодами, дворцами и садами; я любовался улыбчивым Неаполитанским заливом, где все напоминает о красоте и величии древнего мира. Все это я видел собственными глазами и все же остался истинным бермехинцем, для которого и сама Вильябермеха и ее окрестности кажутся самым прекрасным, самым богатым, самым плодородным местом на земле. Вы скажете, что горизонт здесь не слишком обширен. Тем лучше: я могу вообразить себе за этим горизонтом все, что пожелаю; если же я пожелаю вообразить нечто великое и бесконечное, то достаточно воздеть глаза к небу – и смотри себе в небесную бездну: воздух здесь чист и прозрачен, и облака не скрывают от взора даже самую далекую звезду. Пространство земли, которое охватывает мой глаз, тоже невелико, но зато я знаю здесь каждую пядь и могу заселить его воспоминаниями и событиями в тысячу раз более интересными и близкими моему сердцу, чем приключения Рамы и Кришны[18] в Индии или Энея[19] и Улисса[20] в Неаполе. Разве это не чудесно, если я могу сказать: «Все оливки, растущие на том склоне, посадил я сам; виноградник тоже создан моим трудом; тот дом под красной черепичной крышей – это дом моего друга Серафинито, и я знаю, сколько галлонов вина ежегодно получает он на своей ферме; тот участок белесой земли принадлежит вам, а белесая она потому, что содержит много извести; тот сад некогда арендовала моя мать, и я провел там лучшие годы моей жизни». Видите заросли камыша на берегу ручья?
– Вижу, – отвечал я.
– Так вот, именно там я впервые понял, что такое красота искусства, порыв вдохновения и впервые испытал полное, бескорыстное, бесконечное, ни с чем не сравнимое наслаждение.
– Что же там произошло? – спросил Серафинито.
– Тростник этот – точно такой же, каким я видел его в начале века, когда мне было лет десять или того меньше. Я был совсем невежествен: не умел ни читать, ни писать и вообще ничего не знал и не понимал. Я представлял себе небо в форме стеклянного полушария – вроде половинки апельсина, что ли, к нему прибиты гвоздики, а шляпки их – это звезды; по стеклянной поверхности катятся луна, солнце и большие планеты, движут их ангелы или какие-то таинственные духи. Лоно земли казалось беспредельным, чем-то вроде огромной пещеры, бездонной пропасти, населенной чертями и преступниками. Выше стеклянной сферы я воображал себе другую бесконечность – царство света и вечной благодати, где живут святые, ангелы, девственницы и играет музыка, и бог и все, кто при нем, ее слушают. Я был убежден, – впрочем, как и все бермехинцы, – что высшая точка небесного свода находится над Вильябермехой и там – трон святой троицы. Поэтому и небесная музыка слышалась здесь лучше, чем в других местах. Так говорили мои земляки. И я забирался в заросли тростника, погружался в предвечернюю тишину, напрягал слух, надеясь услышать эту музыку, – благо исполняли ее где-то совсем недалеко. Волнение мое было так велико, нервы так напряжены, что порой мне казалось, будто я ее слышу. Я очень любил музыку, и, если бы не моя страсть к путешествиям и морским приключениям, – кто знает, может быть, из меня получился бы превосходный музыкант. И вот однажды я срезал несколько тростинок, проделал в них дырочки, попробовал одну дудку, попробовал другую и наконец добился чистого звучания: получилась настоящая флейта с сильным, красивым звуком, и я играл на ней все известные мне мотивы. Мне казалось, что многое я сам слышу впервые, что я сочинил эту музыку сам. Может быть, это было смутным воспоминанием о той музыке, которая доносилась до меня из небесных высей. Жителям нашего местечка очень нравились и моя флейта, и то, как я на ней играю, а моя мать буквально зацеловывала меня после каждого исполнения. Вот и судите теперь: есть ли на свете что-либо прекраснее нашей Вильябермехи?
Серафинито ничего на это не возражал, ибо любил Вильябермеху больше, чем сам дон Хуан. Я попытался было что-то сказать, но дон Хуан Свежий приводил все новые и новые доводы и говорил с таким поэтическим вдохновением, которого я в нем не предполагал. Тогда я повел разговор в другом направлении.
– Не буду с вами спорить, так как считаю ваши доводы убедительными, хотя и несколько софистичными. Но позволю себе спросить: откуда у вас, у трезвого позитивиста, столько чувствительности, поэтических иллюзий? Мне это кажется странным.
– Опускаю ваше замечание о чувствительности, – отвечал дон Хуан. – Я никогда не считал себя сухарем, но и чувствительным меня никак не назовешь. Однако я совершенно не согласен с вами, когда вы приписываете мне какие-то иллюзии. У меня не было, нет и не будет никаких иллюзий. Так что мне не приходилось и не придется оплакивать их потерю. Иллюзии мне отвратительны.
– То есть как это нет иллюзий? Разве ваша любовь к родным местам не иллюзия?
– Эта любовь покоится не на иллюзиях, а на реальности. Обсуждать это – значит вернуться к прежнему спору, а я не хочу спорить. Но я хочу доказать вам, что у меня нет иллюзий, что они – зло и что не иметь их – благо.
– Но тогда, – вставил Серафинито, – поэт говорит чепуху, утверждая:
Иллюзии сгоревшие,Что листья улетевшиеС дерева сердец[21].– Нет, это не чепуха: поэт прав, если я его верно понял. Но ведь правда и то, что нам до смерти надоели бесконечные жалобы по поводу утраченных иллюзий. Может быть, они и «листья с дерева сердца», но никак не спелые плоды и даже не цветы, которые могут оздоровить воздух.
– Что же вы понимаете под иллюзиями? – спросил я.
– Иллюзия есть некая идея, рожденная воображением, не имеющая никакой реальной ценности. Иллюзия – это ложь, заблуждение. Утратить иллюзии – значит то же, что обрести истину. Обретение же истины, то есть высшее достижение, к которому стремится наш ум, не должно оплакиваться.
– Мне кажется, вы сами себе противоречите. Вы только что рассказывали, как вам жаль было расставаться с наивным неведением, ибо оно, это неведение, как раз и породило в вашей детской душе поэтические образы неба и земли.
– Разумеется, я не вижу небо и землю такими, как тогда, в детстве. Но почему вы думаете, что образы эти стали менее поэтичными теперь? Поэзия совместима не только с неведением: она еще больше совместима с глубокими знаниями, накопленными всеми университетами и академиями мира. Только благодаря науке я узнал, что есть иллюзия, что значит утратить ее или избавиться от нее. Именно наука доказала мне никчемность и лживость всякой иллюзии. И, напротив, она не доказала мне, что утрату пустых и лживых иллюзий следует оплакивать. Некогда поэт сказал: «Древо знания не есть древо жизни», но я думаю как раз обратное: древо жизни есть древо истинного знания.
– Мне не совсем ясна ваша мысль.
– Попробую ее уточнить. Скажите, не считаете ли вы, что образ, возникающий у нас с вами в результате опытного познания, является более емким, возвышенным и прекрасным, чем тот, который возникал у людей в прошлом?
– Пожалуй, это верно. Но вы говорите только об опытном познании. Беда в том, что, познавая нечто путем опыта, человек утрачивает способность воображения и лишается веры, и об этом нельзя не пожалеть.
– Я вижу, вы согласны с тем, что нынешнее познание стоит больше вчерашнего. Отсюда следует, что чем больше накапливается знаний о предмете, тем более прекрасным, возвышенным и благородным является нам образ этого предмета как частицы всего сущего.
– Но не должно исчезнуть и то, что добывается нашим воображением, – возразил я.
– Правильно. Воображению всегда есть работа. Теперь я понимаю, что небо – это бесконечное пространство, а звезды отделены друг от друга огромными расстояниями, но и за теми пределами, которых достигает глаз или телескоп, я могу вообразить все, что мне захочется, и поверить во что угодно.
– Но вы должны признать, что и воображение и вера простираются очень далеко и слишком далеко уходят от земли.
– Вы ошибаетесь и в этом; я не согласен с вами. Воображение и вера нужны не только для запредельности. Ведь то, что я вижу, наблюдаю, устанавливаю опытным путем, касается внешнего, поверхностного. Я вижу явление и что-то знаю о нем, но как увидеть и познать потаенную сущность явлений и самих предметов? Русалки и сильфиды не так глупы и просты, чтобы какой-то химик взял их голыми руками, посадил в реторты и колбы и разложил на воду и воздух. Вряд ли найдется такой совершенный микроскоп, который может раскрыть таинство оплодотворения тычинки любвеобильной пыльцой. Какими законами физики или математики можно объяснить, почему привидение, дух, дьявол без всякой посторонней помощи лезут вам в душу и тревожат ее? Кто доказал, что они не существуют? Кто измерил пределы человеческого восприятия? Кто осмелится сказать: «За этой чертой ничто не может быть познано»? Никто не доказал, что нет или не может быть людей, которые видят, чувствуют другие сокровенные существования, общаются и советуются с ними. А разве можно до конца понять сущность нашего с вами общения? Мы облекаем нашу мысль в чувственную форму, то есть передаем друг другу мысль не непосредственно, а при помощи условного материального знака. Он репрезентирует эту мысль, и название ему – «слово». Следовательно, слово есть звук, то есть физическое колебание воздуха, которое воздействует на наш орган слуха. Но почему же мы все-таки понимаем друг друга? Этого мы не знаем теперь и вряд ли когда-нибудь узнаем. Люди постоянно толкуют о сверхъестественном и естественном с таким видом, будто уже великолепно поняли различие между ними, установили четкую границу, все размежевали, обозначили и все постигли. Но, друг мой, границы между сверхъестественным и естественным нет, или, во всяком случае, она стерта. Ставить вехи и знаки, чертить демаркационные линии и проводить границу можно только между познанным и непознанным. Но, согласитесь, это совсем другое дело. Поэтому было бы ошибкой называть время классической древности эпохой веры, а наше время – эпохой разума. Нельзя противопоставлять разум вере. Царство веры беспредельно и вечно, и его могущество не может быть поколеблено завоеваниями и экспансией маленького царства разума. Некоторые иллюзии – по существу, их нельзя назвать иллюзиями – не могут быть убиты наукой. Однако самая великая и трудно вытравливаемая иллюзия как раз состоит в убеждении, что наука обязательно должна убить то, что познается нами благодаря фантазии и вере и что фантазия и вера суть иллюзии. Это иллюзия всесилия науки, иллюзия научного тщеславия. Эту иллюзию я считаю самой вредной из всех иллюзий, хотя, может быть, она не самая жульническая.
– Как это понять? – спросил Серафинито. – Выходит, что иллюзия – это просто плутня?
– Почти всегда, – подтвердил дон Хуан.
– Вы рассуждаете так, – вставил я, – потому что приводите примеры только дурных иллюзий и не упоминаете о хороших.
– Согласен, но, повторяю, никто не доказал мне, что так называемые хорошие иллюзии, рожденные верой, высоким религиозным чувством или проницательной фантазией, действительно являются иллюзиями. А это значит, что иллюзии всегда дурны, иначе они не иллюзии. Я как раз и воюю против настоящих иллюзий и утверждаю, что у меня их никогда не было, а если бы были, то я расстался бы с ними без всякого сожаления.
– Дайте примеры дурных или, как вы говорите, настоящих иллюзий.
– Сколько угодно. Представьте себе, что в Мадриде живет молодая женщина. Она элегантна, немного кокетлива, не очень богата, ей двадцать пять лет, и она не замужем. Иллюзии этой барышни состоят в том, что, выбрав себе в мужья человека богатого, знатного, доброго, терпимого и щедрого, она сможет жить на широкую ногу, тратить много денег и т. д. и т. п. Но иллюзиям не суждено было осуществиться, и теперь девица поминутно жалуется, что настоящей любви нет, что миновали времена Ромео и Джульетты, что мы живем в прозаический век и что она утратила иллюзии. Возьмем для примера замужнюю даму. Муж ее крупный чиновник; он ласков, приветлив, хороший семьянин, нежный, любящий супруг. Среди его приятелей есть чиновник помельче. Жалованье у него не очень большое, он часто остается за штатом, но умеет так устроить дела, что при всех своих долгах и неурядицах у него есть ложа в театре, он часто тратится на наряды и украшения для своей жены, возит ее в Биарриц. У нашей дамы были иллюзии, что и ее муж может создать ей такую жизнь, но, увидев, что иллюзии не осуществились, она их утрачивает. И теперь она поносит все и вся, утверждая, что идеалов нет, что все мужья – глупцы и чудовища, что в наш испорченный век супружество лишено всякой поэзии и что времена Филемона и Бавкиды[22] никогда не вернутся. Повариха нанимается на службу. Хозяйка требует у нее ежедневного отчета о покупках, интересуется ценами, просит быть экономной. Повариха тоже утрачивает свои иллюзии и начинает говорить, что теперь нет щедрых, великодушных, благородных господ, что мы живем в мелочный, мерзкий, плебейский век. В Мадрид приезжает юноша. Он строен, красив, остроумен, одет с иголочки и ежедневно прогуливается по Кастельяна. Однако ни маркизы, ни герцогини в него не влюбляются, богатые наследницы его отвергают. Интерес к нему проявляет только дочь хозяина гостиницы, где он квартирует. Молодой человек тоже утрачивает иллюзии и заключает, что женщины в наш век горделивы, заносчивы, бессердечны. Оказывается, все утрачивают иллюзии: жалкий стихоплет, возомнивший себя поэтом, – потому что никто не читает его стихов, честолюбивый журналист – потому что не стал министром, драматург – потому что освистали его пьесу, врач – потому что растерял клиентуру, адвокат – потому что никто не поручает ему вести дела, враль – потому что никто не верит его вранью, и даже игрок в лотерею – потому что не выигрывает. Они без конца твердят о том, что коррупция в наш век достигла чудовищных размеров, что идеалы исчезли, что всех поразило безверие и что всем распоряжается слепая, несправедливая судьба.
– Судя по вашим примерам, иллюзии могут обретать и утрачивать только бездельники, глупцы и несчастливцы.
– Именно. У них больше иллюзий, чем у других, значит, и теряют они больше, чем другие. Я не отрицаю, конечно, что есть много достойных людей, которые сами создают себе иллюзии, а потом оплакивают их утрату, То, что они создают иллюзии и оплакивают их, не означает отсутствия у них благородства, но свидетельствует об отсутствии здравого смысла и твердого характера.
– Поясните это примерами, – попросил Серафинито.
– Пожалуйста. Живет с мужем бедная, но добродетельная и добропорядочная дама. Она во всем себе отказывает и стойко переносит все лишения и невзгоды, обрушивающиеся на нее и ее мужа. Но проходят годы, и она видит, что за ее добродетельность к ней не стали относиться с большим уважением, никто не трубит о ее добропорядочности, никто не преподносит ей в подарок драгоценностей, не покупает ложу в театре, не дарит карету. Словом, она видит, что Лукреции[23] из нее не получилось и по-прежнему никто ее в грош не ставит. Тогда она начинает сердиться и жаловаться, что утратила иллюзии, что общество – это грязный вертеп, где только дурные женщины имеют кареты, одеваются в шелка, украшают себя бриллиантами и жемчугами. Иллюзии этой сеньоры состояли в том, что она верила, будто ее добродетель обязательно должна принести ей моральные и материальные блага. Однако добродетель, преследующая выгоду, не может считаться истинной добродетелью, и человек, проявляющий ее в своекорыстных целях, способен совершить еще более дурные поступки. Эта другая форма иллюзионизма – ужасная болезнь, которая поражает иногда умы благородные и возвышенные, хотя и недостаточно трезвые и стойкие. Она страшна тем, что ведет к перерождению самых благородных свойств души и характера, заставляя человека во всем видеть корыстную цель и воспринимать прекрасное и возвышенное только с утилитарной точки зрения. Если человек добродетелен и умен, если он занимается наукой, поэзией, то все это может принести ему некоторую пользу, но чистая утилитарность не должна быть для него конечной целью. Более того – тот, кто сознательно стремится извлечь пользу из своей добродетели, научных знаний, поэтических занятий, перестает быть ученым, поэтом и добродетельным человеком. Для низменных целей используют низменные средства. Благородные средства служат только для достижения высоких целей.
– Но разве труд, настойчивость, упорство, бережливость, являясь весьма похвальными добродетелями, не могут быть направлены на достижение материальных благ?
– Несомненно. Иногда – индивиду и всегда – всему обществу в целом они приносят материальные блага. Но я говорю о добродетелях более высокого свойства, о духовных добродетелях, которые можно легко себе приписать, не обладая ими. Иллюзии этого рода имеют две особенности: первая состоит в том, что сначала люди приписывают себе добродетели, а вторая – в том, что они стараются набить им цену и повысить их акции.
– В общем, вы утверждаете, – перебил его Серафинито, – примерно то же, что утверждает известная поговорка: «Честь и корысть в один мешок не кладут».
– То, что я утверждаю, не имеет ничего общего с этой поговоркой. Честный человек может извлекать профит, и даже немалый, из тысячи честных занятий. Я, например, имел большую выгоду от моих занятий и не считаю, что приобрел состояние нечестным путем. Я утверждаю только, что есть такие добродетельные умы и характеры и дела человеческие такого величия, что с ними несовместимо понятие выгоды, они не требуют оплаты, вознаграждения. Я осуждаю иллюзии тех людей, которые обладают или думают, что обладают, этими свойствами, думают, что вершат великие дела, и требуют за это плату, и приходят в отчаяние, когда ее не получают. У людей этого сорта, пораженных иллюзиями, существует наивное представление о мироустройстве и о божественном провидении: они считают, что бог всегда обязан поощрять добро и наказывать зло и вообще заботиться, чтобы нам было хорошо. У них бесконечные претензии к богу, они готовы взыскивать с него за все. Зачем ты меня создал? Почему я должен умереть? Почему я старею? Почему у меня болит зуб? Почему меня кусает эта муха, да еще и жужжит? Почему у куропаток так много костей? Почему в окороке так много жира и так мало мяса?
– Ну, ну, – начал я, смеясь, – из всего сказанного я заключаю, что моего друга дона Хуана тревожат какие-то неприятные воспоминания о человеке, у которого были иллюзии и который их утратил. Поэтому мой друг так резко осуждает всякие иллюзии вообще.
– Вы правы: я действительно пережил нечто неприятное, очень неприятное. Будьте прокляты, иллюзии! Несчастный доктор Фаустино!
Едва он произнес это имя, Серафинито, который до этого сидел понурив голову, расплакался, как дитя.
Это еще больше подогрело мое любопытство, и я спросил дона Хуана, кто такой доктор Фаустино и почему он вызвал столь печальные воспоминания.
Дон Хуан обещал мне рассказать историю Фаустино и исполнил свое обещание, когда Серафинито ушел: он не хотел расстраивать молодого человека.
Я записал рассказ дона Хуана Свежего, несколько его обработав на свой лад. И теперь передаю его читателям. Само собой разумеется, я не собираюсь развивать тезис, направленный против иллюзий.
Мнения дона Хуана и мои на этот счет расходятся, но это не имеет отношения к делу.
Закончив вступление, я покидаю сцену, где я подвизался некоторое время как вспомогательная фигура, и ограничусь теперь ролью рассказчика.
I. Славный дом Лопесов де Мендоса
Вильябермеха, как мы уже сообщали, в течение более двух столетий была пограничной деревней: она граничила с мавританскими владениями.
Еще и теперь там высится замок, вернее, крепость, которая некогда принадлежала местному владетельному князю, главному лицу в местечке. И почерневшие от времени толстые стены, сложенные из грубого камня, и прямоугольные стенные зубцы, и круглые башни с бойницами – все это сохранилось. Сводчатая галерея соединяет старинный замок с церковью более новой постройки: она возводилась уже после войн с маврами. В эпоху жестоких сражений за Гранаду молитвы возносились, вероятно, в замке либо под открытым небом. О возведении храма впервые подумали уже после отвоевания Гранады, а построили его сыны достославного святого Доминика.
Именно с этих пор воинственное племя бермехинцев стало все больше и больше склонять свою шею под теократическим ярмом братьев монахов, что и породило, вероятно, шутливую историю происхождения бермехинцев от рыжеволосого отца Бермехо.