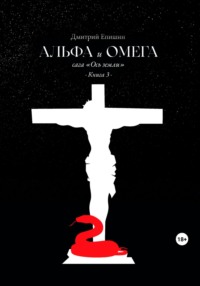
Альфа и Омега. Сага «Ось земли». Книга 3
– Я что-то не верю в твои фантазии, Збигнев. Вечно ты улетаешь в заоблачные выси в своих планах. А мне, грешному, надо думать о делах земных. А все-таки, как насчет войны с этими самыми талибами? Там можно завязнуть надолго, чего, собственно, и хотелось бы.
– Ты понимаешь, прицепиться пока не к чему. Талибы ведь нас пока не задевают. И как бы не попасть в положение русских. Война войной, а конец должен наступать по расписанию. С талибами этот номер может не пройти. Стрелки, скорее, указывают на обстановку вокруг Израиля. Сколько лет не удается расчистить его окружение! Тель Авив не решит вопроса с палестинцами до тех пор, пока не будут нейтрализованы его враги – иранцы, сирийцы, иракцы. Вообще, наши братья в Израиле уже начинают постепенно сходить с ума. Они перепробовали против палестинцев все, что только можно, а толку нет. Там кипит котел ненависти. Думаю, лучше всего начать войну поблизости от Израиля и установить там дружеский режим. Вот все и сдвинется с места.
– Ты предлагаешь поход против Сирии?
– Нет, лучше против Ирака.
– Ты в своем уме, дружище? У Хусейна, или как его зовут в Ленгли, Таракана, самая мощная армия в этом районе. Риск очень большой.
– Это отдельный разговор. Но если мы хотим убить сразу двух зайцев, а именно: расчистить площадку вокруг «земли обетованной» и учредить на ней дружественный режим, то лучше всего заняться Ираком. Во-первых, Ирак больше всего помогает палестинцам, больше сирийцев и иранцев. Перекроем этот ручей – уже станет намного легче. Во-вторых, там можно посадить светское правительство. Иракцы уже практически живут при светском режиме, только с демократией у них плоховато. А мы им от всего сердца подарим демократию и по соседству с Тель-Авивом возникнет свободное, правочеловеческое государство. Друг евреев, враг Ирана. Иранские же шииты наверняка объявят его «исчадием ада», а нам только это и требуется. В любой момент можно подпалить фитиль и отвлечь внимание от Израиля на войну между этими двумя странами. А так как Ирак будет демократическим, и мы не сможем бросить его в беде, участие Пентагона в тамошних делах обеспечено. Мы ведь не бросим в беде островок свободы в арабском мире, правда?
– Несомненно, Збигнев. Ни в одном уголке земли мы не бросаем своего брата-демократа на съедение бесчеловечным режимам. Только совсем не просто свернуть шею Саддаму и завезти туда нашу агентуру.
– Кто же говорит, что это просто? Надо думать, фантазировать, работать головой. У меня, к примеру, кое-какой план уже имеется.
– Очень любопытно.
– Да, любопытно. Как тебе известно, у Таракана не все в порядке с Кувейтом. Кувейт когда-то входил вместе с Ираком в одну английскую зону, и это не дает ему покоя. Очень хочется ему объявить Кувейт исторической родиной. А на самом деле ему нужны соседские богатства. У него долгов не сосчитать, хозяйство почти на издыхании, люди едва сводят концы с концами. В Кувейте же все прекрасно, одними налогами можно снимать огромные сливки. Очень лакомый кусок. Только Таракан побаивается поднять на него руку. Шум будет большой. Союзников-то у него маловато. Но, Джорж! Если Саддам будет точно знать, что США закроют глаза на его бандитскую вылазку, то он обязательно наскочит на Кувейт. Весь трюк должен заключаться в том, чтобы убедить его, что мы и пальцем не пошевелим. Он полезет, бьюсь об заклад! И вот когда его агрессия против суверенного Кувейта случится, никто не сможет остановить возмущенную Америку от активной защиты свободы и демократии в этом многострадальном регионе.
– У нас слишком слабые каналы влияния на Таракана. Я по службе в Агентстве помню их. Он этим людям не поверит.
– Не мне тебя учить, Джорж, как проводятся операции по дезинформации.
– Ты думаешь, Советы его не прикроют? Ведь у них там вложены немалые деньги.
– Прежние генсеки, конечно, прикрыли бы. А Горби… Ну что тут говорить, мистер президент. Ты же лучше меня знаешь ему цену. Здесь все будет в порядке. Мы протащим резолюцию по Таракану через Совет Безопасности ООН и устроим веселую прогулку на танках…
– Узнаю старого доброго Жабиньского, такого же боевого, как в годы юности – с сарказмом ответил Буш. – А ты не забыл, чем кончилась прогулка во Вьетнам, за которую ты так ратовал?
– Времена меняются, Джорж. Мы тоже изменились, да и Советы теперь уже не те. Теперь все получится.
– В общем, ты предлагаешь сценарий войны с последствиями. Если он удастся, то и европейцев можно будет неплохо пристегнуть к этому делу. Немного смягчим разногласия.
– Не знаю, не знаю, Джорж. Вспомни, как немцы и французы плевали в заваренную нами кашу между Тегераном и Багдадом. У них давно зреют претензии к нашим делам на арабском Востоке. «Справедливую» войну они, конечно, поддержат, а вот потом…
– Потом надо будет думать, Збигнев, как взять эту кампанию под более плотный контроль, потому что НАТО чем дальше, тем больше превращается в прокуренную говорильню.
4. Иван Звонарь
В лесном рабочем поселке Первомайске, отдаленном от таких культурных центров, как Муром или Арзамас, народ живет простой, незамысловатый. Досуг у него тоже не весть какой изысканный, в основном в сопровождении водки и самогона, отчего регулярно случаются драки. Взрослые мордуют друг друга довольно редко, только по серьезному случаю, то есть, с перепоя, а молодежь позволяет себе это удовольствие сплошь и рядом. Чтобы упростить подготовку к рукоприкладству, молодые люди собираются на танцплощадке, где и случаются бои местного значения.
Ваня Звонарь был ничем не хуже своих ровесников, и когда перешел в десятый класс средней школы, тоже включился в это увлекательное занятие. С танцев он частенько являлся разукрашенный синими и лиловыми «припарками», но всегда довольный собой. Что-то особенное было в этих боях. Нравились они Ване и, надо прямо сказать, парнишка быстро набирался боевой сноровки. А когда от его руки пал наземь выпускник исправительно-трудового заведения, местный бандит Щербатый, Звонарь понял, что надо выбирать бойцовскую судьбу. История эта началось с того, что однажды темным вечерком Ваня стоял с одноклассницей под черемухой и приспосабливался ее поцеловать. Порывы его вызывали в девушке противоречивые чувства, и она ему как бы не давалась. Короче говоря, все шло своим чередом и, конечно, дошло бы до поцелуя, если бы не местный клоун и редкая гнида Степан Чулков, в миру Чулок, возникший рядом с парочкой. Чулок был мал ростом, кривоног и ненавидел любовные сцены по той простой причине, что девицы отказывались с ним гулять. Он, как всегда, вонял перегаром и нарывался на скандал. Скандал получился быстро. Проходя мимо, Чулок прихватил девушку за талию, а Ваня не стал ждать и врезал ему в ухо. Гнида опрокинулся под кусты, но тут же вскочил и завизжал истошным голосом:
– Ну, тебе конец, гад зеленый. Недолго ждать будешь…
И с этими словами, петляя ногами, он скрылся из виду. Чулок был лет на шесть старше Ивана и входил в избранную группу «джентельменов», накрепко связавших свою жизнь с единственным в поселке питейным заведением. Группа эта в большинстве своем состояла из лиц, познавших горечь несвободы, и всегда была готова устроить представление по любому случаю. А уж поколотить школьника не могло рассматриваться иначе, как изысканное удовольствие. Так оно и произошло. На следующих танцах к Ване, сидевшему у бортика танцплощадки на лавочке, подвалил пьяный Судаков, один из членов вышеописанного клуба. Здоровенная его грудь светила салом из разреза распахнутой рубахи, рыжий ежик блестел каплями пота, а его и без того тупая физиономия смахивала на морду быка.
– Это ты моего другана забидел? – замычал Судаков, пытаясь схватить Ваню за лицо могучей пятерней. – Да я тебя…
Ваня вскочил со скамейки, оттолкнул нападавшего, но в это время у того из-за спины появился другой, более трезвый мститель, по прозванию Щербатый. Глаз его был хищно прищурен, а в зубах зажат окурок «Казбека», призванный указывать на то, что он расправится с Ваней, не вынимая папироски изо рта. Щербатый небрежно покручивал кистью татуированной руки, демонстрируя на пальцах щегольской стальной кастет. Ваня понял, что дело плохо. Эти ребята могут всерьез изуродовать, а то и отправить в могилу. С них станется. Но он не забоялся, не побежал, – ведь на него глядели десятки сверстников. Напротив, какая-то сила подняла парня над деревянным полом. Он легко отпрыгнул вбок и затем широко шагнул на противника, делая ложный замах правой рукой. Не ожидавший такой прыти Щербатый прикрылся от удара, на миг замешкавшись, и в этот момент Ваня что было силы припечатал его ногой под ложечку. Бандит разинул пасть, пытаясь вдохнуть воздух, и кулем рухнул на пол. Кастет на его руке глухо стукнул о деревянный пол. Танцплощадка мгновенно застыла в молчании. Пьяный Судак, забыв про Ваню, принялся тормошить упавшего, который, как потом оказалось, долго не мог встать на ноги. А Ваня, чтобы не накликать новую беду, тихо удалился домой.
Дальнейшее неоднократное участие в нарушениях общественного порядка вплоть до выпуска из школы подтвердило, что Ваня родился бойцом. Тело костистое, подвижное, верткое. Руки сильные, голова от ударов не кружится. Характер хладнокровный, бесстрашный. Не надо думать, что Ваня был прирожденным хулиганом, или, хуже того, резервистом мест не столь отдаленных. Совсем нет. Он был нормальным советским мальчишкой, жившим в той жизни, которая кипела вокруг него. Такова она была, эта жизнь. Да и сегодня она не лучше. Правда, немало его товарищей оказалось не в ладах с законом. Но Ваня счастливо миновал сию планиду и, следуя зову натуры, поступил после школы в серпуховское общевойсковое училище. Здесь ему понравилось. Тренировки, работа над собой, бег, стрельба, военная наука. Все, что требуется человеку, решившему стать по жизни бойцом. А через четыре года лейтенант Звонарь влился в ряды Советской Армии в качестве командира взвода в/ч №N в далеком городе Шауляе, начавшем отсчет длинного и зигзагообразного пути, по которому ему предстояло тянуть армейскую лямку.
Когда в июле 1988 года капитан Иван Звонарь получил от комполка приказ провести конвой из Газни в Кабул, внутри у него что-то привычно напряглось, словно невидимая рука взвела курок. По давней привычке он пробежал по себе внутренним взглядом: касательное ранение на голове зажило, руки на месте, без увечий, на ногах мозолей и потертостей нет, желудок не болит, только легкая изжога. Значит, порядок, можно работать. С этого момента и до конца операции все в нем будет напряжено и сконцентрировано до предела. Таков главный способ выживания на афганской войне, где враг прячется повсюду и выстрела его надо ожидать с любой стороны. Тот, кто не ждет – проигрывает. Иван научился не проигрывать, хотя играть в афганскую рулетку крайне опасно. Но он был профессиональным солдатом и не жалел о своей судьбе. Ему нравилось острое и сладкое ощущение риска, которое заставляет сердце биться бешеными толчками, многократно мобилизует организм, а потом приносит необъяснимое ликование. Такая привычка становится сродни наркотической зависимости, а полюбивший ее человек уже не хочет думать о том, как он рискует, когда вступает в противоборство с роком. Капитан Звонарь славился в полку своей везучестью. Но на самом деле вся его везучесть состояла в умении воевать, которое заключается не только в умении драться и метко стрелять, но и в способности жестко руководить солдатами и правильно оценивать ход боя. Все это было дано Ивану, и теперь он готовился провести очередной конвой на Кабул. Конвои редко доходили до цели без потерь, но их нельзя было не посылать. Они везли в центральный госпиталь тех раненых, которым не могли помочь полевые врачи. Авиация в Газни не садилась, потому что подлеты к вертолетной площадке постоянно обстреливались с близлежащих гор.
Военное положение в Афганистане осложнялось с каждым днем, и было ясно, что дело близится к печальному концу. Мощные вливания американских денег в пуштунские районы делали свое дело. Раскол среди пуштунов, главного афганского племени, к которому принадлежал советский ставленник Наджибулла, достиг своей крайней точки. И хотя Москва не жалела средств на его поддержку, Наджибулла проигрывал. Его партия халькистов планировала построение социализма, полагая, что в суннитском Афганистане, где всегда были сильны светские традиции, этот вариант возможен. Ислам она отодвинула на второе место. Его противники же, напротив, сделали ставку на исламских экстремистов, в массовом количестве тиражируя талибов. Под воздействием талибов движение против Наджиба стремительно превращалось в движение религиозных фанатиков, а эту силу может остановить только поголовное уничтожение. Халькисты не имели такой возможности. Их поражение в войне уже обозначилось.
Два БМП, три крытых ЗИЛа и один танк имели простую задачу: на большой скорости уйти из города и без остановок пройти около полутора сотен километров до столицы. Отдалившись от гарнизона, они оставались лицом к лицу с судьбой, и только возможность в случае засады вызвать вертолет из Кабула давала надежду на благополучный исход. Иван сидел на броне БМП рядом с рядовым Сергеем Седовым, его земляком, призванным из лежавшего неподалеку от его родины городка Окоянова. Сережка был совсем сосунок: девятнадцать лет, тоненький и розоволицый, он сверкал голубыми глазищами из под наезжавшего на глаза шлема и не понимал, что смерть ходит рядом. Да и кто из нас это понимает в девятнадцать лет? Он вообще ничего не понимал в жизни, потому что только начинал жить. А капитан Иван Звонарь знал, что такое жизнь и смерть. Он воевал в Афгане третий год и немало своих боевых братьев погрузил в «черные тюльпаны». Трясясь на броне БМП, Иван посматривал на рядового Седова, и теплое чувство разливалось по его душе. Сережка был ровесником его младшего брата. Тот также казался ему беззащитным перед внешним злом, и Иван всегда бережливо охранял братишку.
Звонарь предчувствовал, что на конвой будет нападение и запасся лишним бронежилетом, который отдал Сережке, велев прикрыть им ноги. Машину потряхивало на выбоинах дороги, жаркий пыльный ветерок задувал в расстегнутые ворота камуфляжей, солнце жгло нестерпимо. Конвой шел днем, потому что ночью не было прикрытия с воздуха. Вертолеты не имеют приборов ночного видения.
Машины прошли почти полпути, когда нарвались на засаду. При первых же выстрелах Иван дал команду «с машин», спрыгнул сам и тут же почувствовал резкую боль в животе, которая охватила весь низ тела. Он увидел рваную рану в пахе и понял, что в него вошел осколок. Засада была небольшой. Они отстреливались минут десять, а затем «духи» скрылись, и вызванная «вертушка» пригодилась лишь для того, чтобы забрать Ивана на борт. В госпитале Звонарю диагностировали повреждение позвоночника и паралич нижних конечностей. Через неделю он уже находился в Москве, в прохладной и просторной палате госпиталя им. Вишневского, но и там светила медицины подтвердили, что остаток жизни ему предстояло провести в коляске. Рядом с ним в палате лежал Сережка, которому разворотило осколками мышцы правого бедра. Если бы не бронежилет Ивана, то быть бы ему без ног, потому что основная масса осколков от минометного заряда попала в прикрытое «броником» место. Сережка благодарно посверкивал глазами на Звонаря и пытался развлечь его как мог. Ивану предстояло лежать еще полгода, когда Сергея выписали и демобилизовали. Прощаясь, он взял адрес командира и сказал, что обязательно навестит его после выхода из госпиталя. Ранение и госпиталь заметно на него повлияли. В лице рядового Звонарь увидел тень решительности, которая свидетельствуют о превращении мальчика в мужчину.
* * *Когда ранним майским вечерком два санитара закатили коляску с Иваном в купейный вагон поезда Москва – Берещино и посадили его у окна, оживленный разговор попутчиков затих. Санитары пристроили коляску в тамбуре, договорились с проводником о том, что тот поможет Звонарю в месте прибытия, тепло распрощались, и, легко ступив на перрон, растворились в толпе. Звонарь оглядел попутчиков, увидел скромный провинциальный народ, не знавший, как себя повести от вида такого горя, и сказал первым:
– Не смотрите вы на меня так. Афганец я, еду в Первомайск. На родину. Что еще знать хотите?
Все молчали.
– Ну, тогда дайте мне возможность выпить. Мне надо выпить.
Вскоре появилась дешевая горькая водка, кое-какая закуска, и пошел тяжелый, тягучий разговор о жизни, об Афгане, о Горбачеве и о том, что нас не ждет ничего хорошего. Иван пил и не пьянел. На душе его саднило, в голове стоял сумрак. Он понимал, что жизнь его зашла в тупик, но не видел из этого тупика никакого выхода. В госпитале ему иногда приходило в голову, что все происходящее – кошмарный сон, от которого можно очнуться, открыть глаза, увидеть чистое голубое небо, веселых людей, работающих в поле, игру жеребят на лугу, блики воды в реке, побежать по зеленой траве и засмеяться громким, счастливым смехом. Но действительность тут же врывалась в сознание бессилием неподвижного тела и тоской безысходности, придавливавшей его тем тяжелее, чем ближе придвигалась его встреча с родиной. Сейчас ему было невыносимо ехать в тот край, который двенадцать лет назад он покинул выпускником средней школы, полным надежд парнем, отправившимся поступать в военное училище. Тогда его душу распирало от счастья, от чувства обретенной воли, от картин летней России, мелькавших за окном, от ощущения того великого и неизвестного будущего, которое мчится ему навстречу. А теперь его ничего не ждет в Первомайске, кроме убогого прозябания на инвалидную пенсию. Ничего, кроме этого. Ни работы, ни внимания, ни общественной помощи. Крохотная пенсия и полное забвение. Разве что поздравления школьников на 9 мая. Горький протест овладевал его душой. Протест против беспросветного будущего, против равнодушия государства, бросившего его в топку войны и почти забывшего о его жертве, протест против беспомощности и отупелости сограждан, не способных разбудить свои сердца для тех, кто положил за них свое здоровье. Горький, выедающий душу протест против всего света, так круто и несправедливо обошедшегося с ним.
На следующее утро Ивана вынесли из вагона на станции Первомайск. Проводники посадили его в примитивную коляску и устроили военный рюкзак с пожитками на коленях. Поезд коротко гуднул и тронул в направлении Берещино. Правда, здесь все знали, что не в Берещино вовсе он направляется. Это всего лишь крохотная деревенька перед въездом в конечный пункт – Арзамас 16, который с берендеевых времен до Сталина звался городом Саровом. Однако теперь Ивану это было неважно. Он приехал в свой родной поселок, где, впрочем, оставалась лишь дальняя его родня. Родители его отошли в лучший мир, пока он мотался по свету. Батя работал осмотрщиком на железке, но сильно закладывал, и водка его не пощадила. В пятьдесят два годика отчалил этот простой и скромный человек на погост, так и не дождавшись сына с войны. Мама стала после этого сильно тосковать и незаметно свернулась сухоньким листочком в своем опустевшем домике. Младший братишка, последовавший за ним по военной линии, учился в Московском погранучилище. В домике Звонарей поселился двоюродный племянник Ивана Вальгон, парень шальной и диковатый. Его не взяли в армию по зрению, и он терроризировал мать своим пьянством. Мать его, Юлия, учительница начальных классов, как могла боролась с сыном, но силы были не равны. Не было дня, чтобы он не умыкал из дома что-нибудь на пропой. Когда опустел дом Звонарей, она, как единственная наличествующая наследница, спровадила туда сыночка.
Теперь Ивану предстояло разобраться с этой ситуацией, а ситуация уже начала быстро развиваться. Он увидел шагавшего по перрону здоровенного, чернявого парня, в котором едва узнал племянника. Тот широко улыбался, придерживая рукой очки с толстыми линзами, и кричал издалека:
– Дядька Ваня, здорово, с приездом. Вот ты какой, дядек! Ну ничего…, что в каталке. Не такие дела решали…
Он подбежал к Ивану, неуклюже обнял его, повесил вещмешок на плечо и взялся сзади за спинку коляски.
– Ну, поехали домой, там мать уже стол накрывает. Чай, на родину приехал.
Юля была искренне рада увидеть родственника, хотя взгляд ее не мог скрыть боли от его беспомощного вида. Звонарь был когда-то видным женихом и хватким парнем. А теперь… На скромно накрытом столе стояла бутылка водки, миска с картошкой, квашеная капуста и соленые грибы. Аккуратно нарезанная буханка бородинского хлеба, который проводники привозили из Москвы, красовалась посредине этого натюрморта.
Сели за стол позавтракать, да так и засиделись за разговором. Сестра рассказывала уставшим и безнадежным голосом о житье-бытье, о знакомых и друзьях Ивана. Вальгон, крепенько захмелев, сидел молча, лишь часто курил, да иногда ввертывал словечко. Рассказчик он был плохой.
– Главное не в самой нужде, – говорила Юлия, – кто из нас ее не видел. Чай, войну еще не забыли, да и после войны всякое бывало. Богатыми никогда не были. И сейчас ведь не голодаем. Корка хлеба всегда найдется, хотя, конечно, при Брежневе не в пример лучше было. Другое давит, понимаешь, Ваня, другое. Земля из под ног уходит. Ведь человек на земле прямо стоит, пока себя человеком считает, а как только у него это отнимают, то он теряется, падает, понимаешь?
– Неужели перестройка так сильно вас подкосила? – удивился Иван, три года не бывавший дома.
– Не знаю, как сказать. Не перестройка это, а сплошная ложь вокруг. Все врут: Горбачев, его приспешники, газеты, журналы, начальники. Живем во лжи. Чего только не наплели про советскую власть, а нам обидно. Мы при советской власти людьми были, человеками. Зовут нас целину осваивать – идем, осваиваем. Мерзнем, голодаем, а собой гордимся. Мы – покорители целины. Гордимся, Ваня, а сегодня над нами какие-то евреи в Москве глумятся: советская власть нас за дурачков держала! Разве ж это не обидно? Мой папка с целины ничего не привез, кроме ампутированной ступни, отморозил он ее. Ничего, а мы им гордились! Дурачки, значит, были! Дурачки, значит, страну такую отгрохали, самую сильную в мире! А они нам врут, что на зековских костях страна построена. Не хватило бы никаких миллионов зеков для такого подвига. Вот мы и горюем, вот мы и пьем, вот мы и руки опустили, понимаешь?!
В разговор включился Вальгон. Пьяненьким голосом он поддержал сестру, но потянул разговор в свою сторону:
– И что мне такая перестройка, Вань, что я с нее имею? Меня с подстанции погнали – иди отсюда, пьянь. Точка, больше податься некуда. Везде народ лапу сосет. Так что я теперь никакой не электрик, а так, нулевая фаза. Ты что думаешь, я пропаду? Или мы тут все пропадем? Ну, нет! Мы не пропадем! У нас же добра пропасть! Вон мы с дружками сейчас шпалы из запаса продаем. Охраняемые! Продаем и пьем. Вот так-то. И будем продавать. Шпалы кончатся, провода продадим, провода кончатся, за рельсы возьмемся. Вот перестройщики и пусть по воздуху на паровозах летают. При помощи нового мышления. А нам то что! Они – нас, а мы – их.
Ивана пронял озноб от слов Вальгона. Парень он был, конечно, никудышный, с ранних лет к водке пристрастился, работник плохой, в общем, не удался. Но ведь он теперь не за себя, он за «общество» говорит. Неужели так плохи дела на родине?
– А что, и вправду с работой плохо? Раньше, вроде, трудностей не было.
Вальгон раздавил окурок в блюдце и пьяно уставился на родственника:
– Иван, ты что, с луны свалился? Или газет сто лет не читал? Горбатый до такой ручки страну довел, что полные кранты. Он же урод, Горбатый этот, умственный урод, сечешь? Заводы ни хрена не производят. Денег в казне нет. Продукты из загранки мороженые привозят и втридорога продают. А свои колхозы хиреют. На глазах рушимся. А ты – неужели, неужели!
Разговор их нарушили гости, одноклассник Ивана Мишка Колесов с женой, прослышавшие о приезде земляка. Мишка, в свое время с грехом пополам закончивший арзамасский пединститут, в учителях не прижился. Не его это было, не Мишкино, вечно сеять разумное и доброе, поэтому он решил высевать среди местных умов ростки культуры и сделался директором местного культурного очага. В своем новом статусе Колесов решил непременно носить галстук и штиблеты, несмотря на то, что главным дорожным покрытием Первомайска являлась вековая грязь. Грязь эта имела славное прошлое, ходили слухи, что в былые времена в ней даже утоп подвыпивший гражданин поселка. Известна также и посвященная ей частушка: «В Первомайске и округе нынче грязи будет всласть. В этой грязи темной ночью можно без вести пропасть».
Супруга Мишки, Зинаида, тоже была знакома Звонарю, она училась классом помладше. Колесов, как ответственный за мировоззрение граждан, видно, хотел порасспросить Звонаря о «большой жизни». Супруги чинно поздоровались и, последовав приглашению, присели за стол, выставив по местному обыкновению прихваченную с собой бутылку водки.
И снова разговор зашел о перестройке и о том, «что там, в Москве, думают». Первомайск, лесная глубинка, до перестройки жил скромной, упорядоченной и понятной жизнью. Здесь не было политики и власть не подвергалась сомнению. Измучившая московскую интеллигенцию несвобода слова была неизвестна, а товарный дефицит казался такой же естественной трудностью жизни, как холодный климат или отсутствие поблизости большой воды. Зато было то другое, что позволяет спокойно растить детей и не страдать бессонницей в мыслях о будущем – было осознание принадлежности к могучей державе-защитнице, которая худо-бедно в беде не оставит.