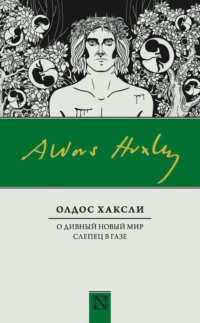
О дивный новый мир. Слепец в Газе (сборник)
Линайна вошла в раздевальню напевая.
– У тебя такой довольный вид, – сказала Фанни.
– Да, у меня радость, – отвечала Линайна. (Жжик! – расстегнула она молнию.) – Полчаса назад позвонил Бернард. (Жжик, жжик! – сняла она шорты.) У него непредвиденная встреча. (Жжик!) Попросил сводить Дикаря вечером в ощущалку. Надо скорей лететь. – И она побежала в ванную кабинку.
«Везет же девушке», – подумала Фанни, глядя вслед Линайне. Подумала без зависти; добродушная Фанни просто констатировала факт. Действительно, Линайне повезло. Не на одного лишь Бернарда, но в щедрой мере и на нее падали лучи славы Дикаря (самая модная, самая громкая сенсация момента!) и озаряли ее малозначительную личность. Ведь сама руководительница Фордианского союза женской молодежи попросила ее прочесть лекцию о Дикаре! Ведь Линайну пригласили на ежегодный званый обед клуба «Афродитеум»! Ведь ее уже показывали в «Ощущальных новостях» – зримо, слышимо и осязаемо явили сотням миллионов жителей планеты!
Едва ли менее лестной для Линайны была благосклонность видных лиц. Второй секретарь Главноуправителя пригласил ее на ужин-завтрак. Один из своих уик-эндов Линайна провела с Верховным судьей, другой – с архипеснословом Кентерберийским. Ей то и дело звонил глава Корпорации секреторных продуктов, а с заместителем Управляющего Европейским банком она слетала в Довиль.
– Чудесно, что и говорить. Но, – призналась Линайна подруге, – у меня какое-то такое чувство, точно я получаю все это обманом. Потому что первым делом, конечно, все они допытываются, какой из Дикаря любовник. И приходится отвечать, что не знаю. – Она поникла головой. – Конечно, почти никто не верит мне. Но это правда. И жаль, что правда, – прибавила она грустно и вздохнула. – Он же страшно красивый – верно?
– А разве ты ему не нравишься? – спросила Фанни.
– Иногда мне кажется, нравлюсь, а иногда – нет. Он избегает меня все время; стоит мне войти в комнату, как он уходит; не коснется рукой никогда; глядит в сторону. Но бывает, обернусь неожиданно и ловлю его взгляд на себе; и тогда – ну, сама знаешь, какой у мужчин взгляд, когда им нравишься.
Фанни кивнула.
– Так что не пойму я, – дернула Линайна плечом. Она недоумевала, она была сбита с толку и удручена. – Потому что, понимаешь, Фанни, он-то мне нравится.
Нравится все больше, все сильней. И вот теперь свидание, думала она, прыскаясь духами после ванны. Здесь, и здесь, и здесь чуточку… Наконец-то свидание. Она весело запела:
Крепче жми меня, мой кролик,Целуй до истомы.Ах, любовь острее коликИ волшебней сомы.Запаховый оргáн исполнил восхитительно бодрящее «Травяное каприччио» – журчащие арпеджио тимьяна и лаванды, розмарина, мирта, эстрагона; ряд смелых модуляций по всей гамме пряностей, кончая амброй; и медленный возврат через сандал, камфару, кедр и свежескошенное сено (с легкими порою диссонансами – запашком ливера, слабеньким душком свиного навоза) – возврат к цветочным ароматам, с которых началось каприччио. Повеяло на прощание тимьяном; раздались аплодисменты; свет вспыхнул ярко. В аппарате синтетической музыки завертелся ролик звукозаписи, разматываясь. Трио для экстраскрипки, супервиолончели и гипергобоя наполнило воздух своей мелодической негой. Тактов тридцать или сорок – а затем на этом инструментальном фоне запел совершенно сверхчеловеческий голос; то грудной, то головной, то чистых, как флейта, тонов, то насыщенный томящими обертонами, голос этот без усилия переходил от рекордно басовых нот к почти ультразвуковым переливчатым верхам, далеко превосходящим высочайшее «до», которое, к удивлению Моцарта, пронзительно взяла однажды Лукреция Аюгари – единственный в истории музыки раз – в 1770 году, в герцогской опере города Пармы.
Глубоко уйдя в свои пневматические кресла, Линайна и Дикарь обоняли и слушали. А затем пришла пора глазам и коже включиться в восприятие.
Свет погас; из мрака встали жирные огненные буквы: ТРИ НЕДЕЛИ В ВЕРТОПЛАНЕ. СУПЕРПОЮЩИЙ, СИНТЕТИКОРЕЧЕВОЙ, ЦВЕТНОЙ СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ ОЩУЩАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ С СИНХРОННЫМ ОРГАНО-ЗАПАХОВЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ.
– Возьмитесь за шишечки на подлокотниках кресла, – шепнула Линайна. – Иначе не дойдут ощущальные эффекты.
Дикарь взялся пальцами за обе шишечки.
Тем временем огнистые буквы погасли; секунд десять длилась полная темнота, затем вдруг ослепительно великолепные в своей вещественности – куда живей живого, реальней реального – возникли стереоскопические образы великана негра и златовласой юной круглоголовой бета-плюсовички. Негр и бета сжимали друг друга в объятиях.
Дикарь вздрогнул. Как зачесались губы! Он поднял руку ко рту; щекочущее ощущение пропало; опустил руку на металлическую шишечку – губы опять защекотало. А орган между тем источал волны мускуса. Из репродукторов шло замирающее суперворкование: «Оооо»; и сверхафриканский густейший басище (с частотой всего тридцать два колебания в секунду) мычал в ответ воркующей золотой горлице: «Мм-мм!» Опять слились стереоскопические губы – «Оо-мм! Оо-ммм!» – и снова у шести тысяч зрителей, сидящих в «Альгамбре», зазудели эрогенные зоны лица почти невыносимо приятным гальваническим зудом. «Ооо…»
Сюжет фильма был чрезвычайно прост. Через несколько минут после первых воркований и мычаний (когда любовники спели дуэт, пообнимались на знаменитой медвежьей шкуре, каждый волосок которой – совершенно прав помощник Предопределителя! – был четко и раздельно осязаем) негр попал в воздушную аварию, ударился об землю головой. Бум! Какая боль прошила лбы у зрителей! Раздался хор охов и ахов.
От сотрясения полетело кувырком все формированье-воспитанье негра. Он воспылал маниакально-ревнивой страстью к златовласой бете. Она протестовала. Он не унимался. Погони, борьба, нападение на соперника; наконец, захватывающее дух похищение. Бета унесена ввысь, вертоплан три недели висит в небе, и три недели длится этот дико антиобщественный тет-а-тет блондинки с черным маньяком. В конце концов после целого ряда приключений и всяческой воздушной акробатики трем юным красавцам альфовикам удается спасти девушку. Негра отправляют в Центр переформовки взрослых, и фильм завершается счастливо и благопристойно – девушка дарит своей любовью всех троих спасителей. На минуту они прерывают это занятие, чтобы спеть синтетический квартет под мощный супероркестровый аккомпанемент, в органном аромате гардений. Затем еще раз напоследок медвежья шкура – и под звуки сексофонов экран меркнет на финальном стереоскопическом поцелуе, и на губах у зрителей гаснет электрозуд, как умирающий мотылек, что вздрагивает, вздрагивает крылышками все слабей и бессильней – и вот уж замер, замер окончательно.
Но для Линайны мотылек не оттрепетал еще. Зажегся уже свет, и они с Джоном медленно подвигались в зрительской толпе к лифтам, а призрак мотылька все щекотал ей губы, чертил на коже сладостно-тревожные ознобные дорожки. Щеки Линайны горели, глаза влажно сияли, грудь вздымалась. Она взяла Дикаря под руку, прижала его локоть к себе. Джон покосился на нее, бледный, – страдая, вожделея и стыдясь своего желания. Он недостоин, недос… Глаза их встретились на миг. Какое обещание в ее взгляде! Какие царские сокровища любви! Джон поспешно отвел глаза, высвободил руку. Он бессознательно страшился, как бы Линайна не сделалась такой, какой он уже не будет недостоин.
– По-моему, это вам вредно, – проговорил он, торопясь снять с нее и перенести на окружающее вину за всякие прошлые или будущие отступления Линайны от совершенства.
– Что вредно, Джон?
– Смотреть такие мерзкие фильмы.
– Мерзкие? – искренне удивилась Линайна. – А мне фильм показался прелестным.
– Гнусный фильм, – сказал Джон негодующе. – Позорный.
– Не понимаю вас, – покачала она головой. Почему Джон такой чудак? Почему он так упорно хочет все испортить?
В вертакси он избегал на нее смотреть. Связанный нерушимыми обетами, никогда не произнесенными, покорный законам, давно уже утратившим силу, он сидел отвернувшись и молча. Иногда – будто чья-то рука дергала тугую, готовую лопнуть струну – по телу его пробегала внезапная нервная дрожь.
Вертакси приземлилось на крыше дома, где жила Линайна. Наконец-то, ликующе подумала она, выходя из кабины. Наконец-то – хоть он и вел себя сейчас так непонятно. Остановившись под фонарем, она погляделась в свое зеркальце. Наконец-то. Да, нос чуть-чуть лоснится. Она отряхнула пуховку. Пока Джон расплачивается с таксистом, можно привести лицо в порядок. Она заботливо прошлась пуховкой, говоря себе: «Он ужасно красив. Ему-то незачем робеть, как Бернарду. А он робеет… Любой другой давно бы уже. Но теперь наконец-то». Из круглого зеркальца ей улыбнулись нос и полщеки, уместившиеся там.
– Спокойной ночи, – произнес за спиной у нее сдавленный голос. Линайна круто обернулась. Джон стоял в дверях кабины, глядя на Линайну неподвижным взглядом; должно быть, он стоял так и глядел все время, пока она пудрилась, и ждал – но чего? – колебался, раздумывал, думал – но о чем? Что за чудак, уму непостижимый… – Спокойной ночи, Линайна, – повторил он, страдальчески морща лицо в попытке улыбнуться.
– Но, Джон… Я думала, вы… То есть разве вы не?…
Дикарь, не отвечая, закрыл дверцу, наклонился к пилоту, что-то сказал ему. Вертоплан взлетел.
Сквозь окошко в полу Дикарь увидел лицо Линайны, бледное в голубоватом свете фонарей. Рот ее открыт, она зовет его. Укороченная в ракурсе фигурка Линайны понеслась вниз; уменьшаясь, стал падать во тьму квадрат крыши.
Через пять минут Джон вошел к себе в комнату. Из ящика в столе он вынул обгрызенный мышами том и, полистав с благоговейной осторожностью мятые, захватанные страницы, стал читать «Отелло». Он помнил, что, подобно герою «Трех недель в вертоплане», Отелло – чернокожий.
Линайна отерла слезы, направилась к лифту. Спускаясь с крыши на свой двадцать восьмой этаж, она вынула флакончик с сомой. Грамма, решила она, будет мало; печаль ее не из однограммовых. «Но если принять два грамма, то, чего доброго, проспишь, опоздаешь завтра на работу. Приму полтора». – И она вытряхнула на ладонь три таблетки.
Глава двенадцатая
Бернарду пришлось кричать сквозь запертую дверь; Дикарь упорно не открывал.
– Но все уже собрались и ждут тебя.
– Пускай ждут на здоровье, – глухо донеслось из-за двери.
– Но, Джон, ты ведь отлично знаешь (как, однако, трудно придавать голосу убедительность, когда кричишь), что я их пригласил именно на встречу с тобой.
– Прежде надо было меня спросить, хочу ли я с ними встретиться.
– Ты ведь никогда раньше не отказывался.
– А вот теперь отказываюсь. Хватит.
– Но ты ж не подведешь друга, – льстиво проорал Бернард. – Ну сделай одолжение, Джон.
– Нет.
– Ты это серьезно?
– Да.
– Но мне что же прикажешь делать? – простонал в отчаянии Бернард.
– Убирайся к черту! – рявкнуло раздраженно за дверью.
– Но у нас сегодня сам архипеснослов Кентерберийский, – чуть не плача, крикнул Бернард.
– Аи яа таква! – Единственно лишь на языке зуньи способен был Дикарь с достаточной силой выразить свое отношение к архипеснослову. – Хани! – послал он новое ругательство и добавил со свирепой насмешкой: – Сонс эсо це-на. – И плюнул на пол, как плюнул бы Попе.
Так и пришлось сникшему Бернарду вернуться ни с чем и сообщить нетерпеливо ожидающим гостям, что Дикарь сегодня не появится. Весть эта была встречена негодованием. Мужчины гневались, поскольку впустую потратили свои любезности на замухрышку Бернарда с его дурной репутацией и еретическими взглядами. Чем выше их положение в общественной иерархии, тем сильней была их досада.
– Сыграть такую шуточку со мной! – восклицал архипеснослов. – Со мной!
Дам же бесило то, что ими под ложным предлогом попользовался жалкий субъект, хлебнувший спирта во младенчестве, – человечек с тельцем гамма-минусовика. Это просто безобразие – и они возмущались все громче и громче. Особенно язвительна была итонская директриса.
Только Линайна молчала. Она сидела в углу бледная, синие глаза ее туманились непривычной грустью, и эта грусть отгородила, обособила ее от окружающих. А шла она сюда, исполненная странным чувством буйной и тревожной радости. «Еще несколько минут, – говорила она себе, входя, – и я увижу его, заговорю с ним, скажу (она уже решилась ему открыться), что он мне нравится – больше всех, кого я знала в жизни. И тогда, быть может, он мне скажет…»
Скажет – что? Ее бросало в жар и краску.
«Почему он так непонятно вел себя после фильма? Так по-чудному. И все же я уверена, что на самом деле ему нравлюсь. Абсолютно уверена…»
И в этот-то момент вернулся Бернард со своей вестью: Дикарь не выйдет к гостям.
Линайна испытала внезапно все то, что обычно испытывают сразу после приема препарата ЗБС (заменитель бурной страсти), – чувство ужасной пустоты, теснящую дыхание тоску тошноту. Сердце словно перестало биться.
«Возможно, оттого не хочет выйти, что не нравлюсь я ему», – подумала она. И тотчас же возможность эта сделалась в ее сознании неопровержимым фактом: не нравится она ему. Не нравится…
– Это уж он форд знает что себе позволяет, – говорила между тем директриса Заведующему крематориями и утилизацией фосфора. – И подумать, что я даже…
– Да, да, – слышался голос Фанни Краун, – насчет спирта все чистейшая правда. Знакомая моей знакомой как раз работала тогда в Эмбрионарии. Знакомая сама слышала от этой знакомой…
– Скверная шуточка, скверная, – поддакнул архипеснослову Генри Фостер. – Вам небезынтересно будет узнать, что бывший наш директор, если бы не ушел, то перевел бы его в Исландию.
Пронзаемый каждым новым словом, тугой воздушный шар Бернардова самодовольства съеживался на глазах, соча газ из тысячи проколов. Смятенный, потерянный, бледный и жалкий, Бернард метался среди гостей, бормотал бессвязные извинения, заверял, что в следующий раз Дикарь непременно будет, усаживал и упрашивал угоститься каротинным сандвичем, отведать пирога с витамином А, выпить искусственного шампанского. Гости ели – но Бернарда уже знать не хотели; пили – и либо ему грубили, либо же переговаривались о нем громко и оскорбительно, точно его не было с ними рядом.
– А теперь, друзья мои, – плотно подзакусив, промолвил архипеснослов Кентерберийский этим своим великолепным медным голосом, что вершит и правит празднованиями Дня Форда, – теперь, друзья мои, пора уже, я думаю… – Он встал с кресла, поставил бокал, стряхнул с пурпурного вискозного жилета крошки и направил стопы свои к выходу.
Бернард ринулся наперехват:
– Неужели?… Ведь так еще рано… Я питал надежду, что Ваше…
Да, каких только надежд он не питал, после того как Линайна сообщила ему по секрету, что архипеснослов примет приглашение, если таковое будет послано. «А знаешь, он очень милый». И показала Бернарду золотую Т-образную застежечку, которую архипеснослов подарил ей в память уик-энда, проведенного Линайной в его резиденции. «Званый вечер с участием архипеснослова Кентерберийского и м-ра Дикаря» – эти триумфальные слова красовались на всех пригласительных билетах. Но именно этот-то вечер избрал Дикарь, чтобы запереться у себя и отвечать на уговоры ругательствами «Хани!» и даже «Сонс эсо це-на!» (счастье Бернарда, что он не знает языка зуньи). То, что должно было стать вершинным мигом всей жизни Бернарда, стало мигом его глубочайшего унижения.
– Я так надеялся… – лепетал он, глядя на верховного фордослужителя молящими и горестными глазами.
– Молодой мой друг, – изрек архипеснослов торжественно-сурово; все кругом смолкло. – Позвольте преподать вам совет. Добрый совет. – Он погрозил Бернарду пальцем: – Исправьтесь, пока еще не поздно. – В голосе его зазвучали гробовые ноты: – Прямыми сделайте стези ваши, молодой мой друг. – Он осенил Бернарда знаком Т и отворотился от него. – Линайна, радость моя, – произнес он, меняя тон. – Прошу со мной.
Послушно, однако без улыбки и без восторга – совершенно не сознавая, какая оказана ей честь, – Линайна пошла следом. Переждав минуту из почтения к архипеснослову, двинулись к выходу и остальные гости. Последний хлопнул, уходя, дверью. Бернард остался один. Совершенно убитый, он опустился на стул, закрыл лицо руками и заплакал. Поплакав несколько минут, он прибегнул затем к средству действеннее слез – принял четыре таблетки сомы.
Наверху, в комнате у себя, Дикарь был занят чтением «Ромео и Джульетты».
* * *Вертоплан доставил архипеснослова и Линайну на крышу Собора песнословия.
– Поторопитесь, молодой мой… то есть Линайна, – позвал нетерпеливо архипеснослов, стоя у дверей лифта. Линайна, замешкавшаяся на минуту, глядевшая на луну, опустила глаза и поспешила к лифту.
«Новая биологическая теория» – так называлась научная работа, которую кончил в эту минуту читать Мустафа Монд. Он посидел, глубокомысленно хмурясь, затем взял перо и поперек заглавного листа начертал: «Предлагаемая автором математическая трактовка концепции жизненазначения является новой и весьма остроумной, но еретической и по отношению к общественному порядку опасной и потенциально разрушительной. Публикации не подлежит (эту фразу он подчеркнул). Автора держать под надзором. Потребуется, возможно, перевод его на морскую биостанцию на острове Св. Елены». А жаль, подумал он, ставя свою подпись. Работа сделана мастерски. Но только позволить им начать рассуждать о назначении жизни – и форд знает до чего дорассуждаются. Подобными идеями легко сбить с толку тех высшекастовиков, чьи умы менее устойчивы, – разрушить их веру в счастье как Высшее Благо и убедить в том, что жизненная цель находится где-то дальше, где-то вне нынешней сферы людской деятельности; что назначение жизни состоит не в поддержании благоденствия, а в углублении, облагорожении человеческого сознания, в обогащении человеческого знания. И вполне возможно, подумал Главноуправитель, что такова и есть цель жизни. Но в нынешних условиях это не может быть допущено. Он снова взял перо и вторично подчеркнул слова «Публикации не подлежит» – еще гуще и чернее; затем вздохнул. «Как бы интересно стало жить на свете, – подумал он, – если бы можно было отбросить заботу о счастье».
Закрыв глаза, с восторженно-сияющим лицом, Дикарь тихо декламировал в пространство:
Краса бесценная и неземная,Все факелы собою затмевая,Она горит у ночи на щеке,Как бриллиант в серьге у эфиопки…Золотой Т-образный язычок блестел у Линайны на груди. Архипеснослов игриво взялся за эту застежечку, игриво дернул, потянул.
– Я, наверно… – прервала долгое свое молчание Линайна. – Я, пожалуй, приму грамма два сомы.
Бернард к этому времени уже крепко спал и улыбался своим райским снам. Улыбался, радостно улыбался. Но неумолимо, каждые тридцать секунд, минутная стрелка электрочасов над его постелью совершала прыжочек вперед, чуть слышно щелкнув. Щелк, щелк, щелк, щелк… И настало утро. Бернард вернулся в пространство и время – к своим горестям. В полном унынии отправился он на службу, в Воспитательный Центр. Недели опьянения кончились; Бернард очутился в прежней житейской оболочке; и, упавшему на землю с поднебесной высоты, ему как никогда тяжело было влачить эту постылую оболочку.
К Бернарду подавленному, протрезвевшему Дикарь неожиданно отнесся с сочувствием.
– Теперь ты снова похож на того, каким был в Мальпаисе, – сказал он, когда Бернард поведал ему о печальном финале вечера. – Помнишь наш первый разговор? На пустыре у нас. Ты теперь опять такой.
– Да, потому что я опять несчастен.
– По мне, лучше уж несчастье, чем твое фальшивое, лживое счастье прошлых недель.
– Ты б уж молчал, – горько сказал Бернард. – Ведь сам же меня подкосил. Отказался сойти к гостям и всех их превратил в моих врагов.
Бернард сознавал, что слова его несправедливы до абсурда; он признавал в душе – и даже признал вслух – правоту Дикаря, возражавшего, что грош цена приятелям, которые чуть что превращаются во врагов и гонителей. Но, сознавая и признавая все это, и дорожа поддержкой, сочувствием друга, и оставаясь искренне к нему привязанным, Бернард упрямо все же затаил на Дикаря обиду и обдумывал, как бы отквитать ему по мелочам. На архипеснослова питать обиду бесполезно; отомстить Главному укупорщику или помощнику Предопределителя у Бернарда не было возможности. Дикарь же в качестве жертвы обладал тем огромным преимуществом, что был в пределах досягаемости. Одно из главных назначений друга – подвергаться (в смягченной и символической форме) тем карам, что мы хотели бы, да не можем обрушить на врагов.
Второй жертвой-другом у Бернарда был Гельмгольц. Когда, потерпев крушение, он пришел к Гельмгольцу, чтобы возобновить дружбу, которую во дни успеха решил разорвать, то Гельмгольц встретил его радушно, без слова упрека, словно не было у них никакой ссоры. Бернард был тронут и в то же время унижен этим великодушием – этой сердечной щедростью, тем более необычайной (и оттого вдвойне унизительной), что объяснялась она отнюдь не воздействием сомы. Простил и забыл Гельмгольц трезвый и будничный, а не Гельмгольц, одурманенный таблеткой. Бернард, разумеется, был благодарен (дружба с Гельмгольцем теперь – утешение огромное) и, разумеется, досадовал (а приятно будет как-нибудь наказать друга за его великодушие и благородство).
В их первую же встречу Бернард излил перед другом свои печали и услышал слова ободрения. Лишь спустя несколько дней он узнал, к своему удивлению – и стыду тоже, – что не один теперь в беде. Гельмгольц сам оказался в конфликте с Властью.
– Из-за своего стишка, – объяснил Гельмгольц. – Я читаю третьекурсникам спецкурс по технологии чувств. Двенадцать лекций, из них седьмая – о стихах. Точнее, «О применении стихов в нравственной пропаганде и рекламе». Я всегда обильно ее иллюстрирую конкретными примерами. В этот раз пришла мне мысль попотчевать студентов стишком, только что сочиненным. Мысль сумасшедшая, конечно, но уж очень захотелось. – Гельмгольц засмеялся. – К тому же, – прибавил он более серьезным тоном, – хотелось проверить себя как специалиста: смогу ли я внушить то чувство, какое испытывал сам, когда писал. Господи Форде! – засмеялся он опять. – Какой поднялся шум! Шеф вызвал меня к себе и пригрозил немедленно уволить. Отныне я взят на заметку.
– А о чем твой стишок? – спросил Бернард.
– О ночной уединенности.
Бернард поднял брови.
– Если хочешь, прочту. – И Гельмгольц начал:
Кончено заседание.В Сити – полночный час.Палочки барабанныеНемы. Оркестр угас.Сор уснул на панели.Спешка прекращена.Там, где толпы кишели,Радуется тишина,Радуется и плачет,Шепотом или навзрыд.Что она хочет и значит?Голосом чьим говорит?Вместо одной из многихСюзанн, Марианн, Услад(У каждой плечи и ногиИ аппетитный зад)Со мной разговор затевает,Все громче свое запеваетХимера? абсурд? пустота? —И ею ночь городскаяГуще, плотней занята,Чем всеми теми многими,С кем спариваемся мы.И кажемся мы убогимиЖителями тьмы.Я привел им это в качестве примера, а они донесли шефу.
– Что ж удивляться, – сказал Бернард. – Стишок этот идет вразрез со всем, что они с детства усвоили во сне. Вспомни – им по крайней мере четверть миллиона раз повторили в той или иной форме, что уединение вредно.
– Знаю. Но мне хотелось проверить действие стиха на слушателях.
– Ну вот и проверил.
В ответ Гельмгольц только рассмеялся.
– У меня такое ощущение, – сказал он, – словно брезжит передо мной что-то, о чем стоит писать. Словно начинает уже находить применение бездействовавшая во мне сила – та скрытая, особенная сила. Что-то во мне пробуждается.
«Попал в беду, а рад и светел», – подумал Бернард.
Гельмгольц с Дикарем сдружились сразу же. Такая тесная завязалась у них дружба, что Бернарда даже кольнула в сердце ревность. За все эти недели ему не удалось так сблизиться с Дикарем, как Гельмгольцу с первого же дня. Глядя на них, слушая их разговоры, Бернард иногда жалел сердито, что свел их вместе. Этого чувства он стыдился и пытался его подавить то сомой, то усилием воли. Но волевые усилия мало помогали, а сому непрерывно ведь не будешь глотать. И гнусная зависть-ревность мучила снова и снова.
В третье свое посещение Дикаря Гельмгольц прочел ему злополучный стишок.
– Ну, как впечатление? – спросил он, кончив.
Дикарь покрутил головой.
– Вот послушай-ка лучше, – сказал он и, отомкнув ящик, вынув заветную замызганную книгу, раскрыл ее и стал читать:
Птица звучного запева,Звонкий заревой трубач!Воструби, воспой, восплачьС веток Фениксова древа…Гельмгольц слушал с растущим волнением. Уже с первых строк он встрепенулся; улыбнулся от удовольствия, услышав «Ухающая сова»; от строки «Хищнокрылые созданья» щекам вдруг стало жарко, а при словах «Скорбной музыкою смерти» он побледнел, вдоль спины дернуло не испытанным еще ознобом. Дикарь читал дальше:
Стало Самости тревожно,Что смешались «я» и «ты»;Разделяющей чертыСлед увидеть невозможно.Разум приведен в тупикЭтим розного слияньем…– Слиться нас Господь зовет, – перебил Бернард, хохотнув ехидно. – Хоть пой эту абракадабру на сходках единения. – Он мстил обоим – Дикарю и Гельмгольцу.

