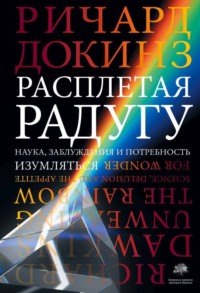
Расплетая радугу. Наука, заблуждения и потребность изумляться
Проспав сотню миллионов лет, мы наконец открыли глаза на великолепной планете, брызжущей красками, изобилующей жизнью. Через несколько десятилетий наши глаза должны будут закрыться вновь. Что может быть благороднее и просвещеннее, чем потратить отпущенное нам время на стремление понять эту Вселенную и то, каким образом нам довелось в ней проснуться? Вот что я отвечаю, когда меня спрашивают (на удивление часто), ради чего я вообще удосуживаюсь вставать по утрам. Можно сказать и наоборот: не грустно ли отправляться в могилу, даже не поинтересовавшись, почему ты родился? Кто от такой мысли не выпрыгнет из постели, горя нетерпением продолжить открывать этот мир и радуясь быть его частью?
Поэтесса Кэтлин Райн, которая преподавала в Кембридже естествознание, специализируясь на биологии, пришла к похожему утешению, будучи молодой женщиной, несчастной в любви и отчаянно нуждавшейся в облегчении своих страданий:
Но в этот миг небес язык стал слышен с высоты,Он был, как сердце, как любовь, и близким, и простым.Сказало небо: “У тебя есть все, что хочешь ты.Не забывай, что ты сестра и ветра, и зверья.Планеты, море, облака – мы все одна семья.И ты навек одна из нас – природа в том твоя.Ты можешь воздухом дышать иль спать могильным сном,Но все равно ты делишь мир и с тигром, и с цветком.Не вешай нос, приободрись, не забывай о том”.“Страсть” (1943 г.)Существует такая вещь, как анестезия повседневности, наркотик обыденности, который притупляет наши чувства и скрывает от нас всю чудесность нашего существования. Тем из нас, кто не обладает поэтическим даром, стоит просто время от времени прилагать усилие и стряхивать с себя этот наркотический дурман. Какой способ противостоять этому инертному привыканию, исподволь приползшему вместе с нами из нашего младенчества, наилучший? Мы ведь не можем по-настоящему улететь на другую планету. Но зато мы в силах вернуть себе свое законное чувство внезапного попадания в незнакомый мир, если будем смотреть на свой собственный мир под необычными углами. Было бы заманчиво воспользоваться для этого каким-нибудь простым примером с розой или бабочкой, но давайте уж доведем нашу инопланетную аналогию до конца. Я помню, как много лет назад мне довелось присутствовать на лекции биолога, изучавшего осьминогов, а также их родственников – кальмаров и каракатиц. Он начал с объяснения, чем эти животные для него так притягательны. “Видите ли, – сказал он, – они марсиане”. А вам когда-нибудь приходилось наблюдать, как кальмар меняет цвет?
Телевизионные изображения иногда транслируются на огромные светодиодные щиты. В отличие от люминесцентного экрана с бегающим по нему электронным лучом, светодиодный экран представляет собой гигантскую совокупность крошечных цветных фонариков, управляемых независимо друг от друга. Яркость каждого отдельного фонарика то усиливается, то слабеет, а с расстояния их свечение выглядит движущимся изображением. Кожа кальмара устроена по тому же принципу, что и светодиодный экран. Только вместо фонариков она оснащена тысячами миниатюрных мешочков с чернилами. У каждого из этих мешочков есть своя собственная крохотная мышца, которая его сдавливает. При помощи нервов, подведенных к каждой из этих отдельных мышц, нервная система кальмара управляет ими, как марионетками, контролируя форму, а значит, и видимость каждого чернильного мешочка.
Теоретически, если подсоединить к компьютеру эти нервы, ведущие к отдельным мешочкам-пикселям, и возбуждать их электричеством, можно было бы крутить на коже кальмара фильмы Чарли Чаплина. Кальмар так не делает, но тем не менее его мозг способен точно и быстро управлять этими проводами, да так, что видео с участием обнаженной кожи редко бывает столь сногсшибательным. Цветовые волны пробегают по его голой коже, как облака в кино с ускоренной съемкой. Рябь и завихрения несутся наперегонки по живому экрану. Кальмар мгновенно демонстрирует смену эмоций – только что он был темно-коричневым, а в следующую секунду уже белый, как привидение, – и лихо управляется со сложными переплетающимися узорами из пунктирных линий и полосок. Когда речь заходит о том, чтобы поменять окраску, хамелеоны – дилетанты по сравнению с кальмарами.
Американский нейробиолог Уильям Кельвин – один из тех, кто усердно размышляет о том, что же такое мышление. Как и некоторые его предшественники, он приверженец той точки зрения, что мысль не хранится в особо отведенном ей отсеке мозга, а представляет собой постоянно меняющийся рисунок активности на его поверхности: некие функциональные единицы привлекают к своей деятельности соседей, образуя популяции, которые являются носителями одной и той же общей мысли и конкурируют по Дарвину с соперничающими популяциями, “думающими” другие, альтернативные мысли. Мы не видим этих изменчивых паттернов, но, вероятно, могли бы, если бы активные нейроны светились. Насколько я понимаю, кора головного мозга выглядела бы тогда похожей на поверхность тела кальмара. Могут ли кальмары думать кожей? Когда они внезапно меняют расцветку, мы считаем это проявлением смены настроения, сообщением для других кальмаров. Переключением окраски кальмар дает понять, что он перешел из агрессивного состояния в состояние, скажем, страха. Естественно предположить, что смена настроения происходит в мозге, а вызванное ею изменение цвета – лишь внешнее проявление происходящих внутри кальмара мыслительных процессов, визуализированных с целью коммуникации. Моя же придумка состоит в том, что и сами мысли кальмара могут не иметь никакого другого местонахождения, кроме его кожи. Если кальмары и в самом деле думают кожей, то они даже еще большие “марсиане”, чем это мог себе представить мой коллега-лектор. И пускай мое предположение несколько надуманное (а так и есть), зрелище пробегающих по коже кальмара цветовых волн – уже достаточная встряска, чтобы согнать с нас анестезию повседневности.
Кальмары – не единственные “марсиане” у нас под носом. Вспомните о гротескных физиономиях глубоководных рыб, о пылевых клещах, которые выглядели бы еще более жутко, не будь они столь крохотными, о гигантских акулах, просто выглядящих жутко. Вспомните, в самом деле, о хамелеонах с их катапультируемым языком, глазами-башенками на шарнирах и бесстрастной, медленной поступью. Также мы можем с неменьшим успехом поймать это ощущение “странного, иного мира”, заглянув внутрь самих себя – представив себе клетки, из которых состоит наше тело. Клетка – это не просто баллончик с жидкостью. Она битком набита плотными структурами – лабиринтами замысловато уложенных мембран. В человеческом организме около ста миллионов миллионов клеток, и общая площадь мембранной поверхности внутри каждого из нас составляет более сотни акров. Размер приличной фермы!
Что же делают все эти мембраны? Может показаться, что они просто заполняют клетку в качестве набивочного материала, но это еще не все. Многие из этих тщательно упакованных угодий отведены под химические производственные линии с движущимися конвейерными лентами и сотнями этапов сборки, каждый из которых ведет к другому в строго выверенной последовательности, причем весь механизм приводится в движение стремительно вращающимися химическими шестеренками. Цикл Кребса – шестерня с девятью зубьями, в значительной степени ответственная за то, чтобы преобразовывать энергию в доступную нам форму, – крутится с частотой более ста оборотов в секунду, и в каждой клетке находятся тысячи таких шестерней. Химические шестеренки этой конкретной модели установлены внутри митохондрий – крошечных телец, которые самостоятельно размножаются в наших клетках, подобно бактериям. Как мы дальше увидим, в настоящее время общепризнано, что митохондрии, а также прочие жизненно важные внутриклеточные устройства, не только похожи на бактерии, но и напрямую происходят от бактериальных предков, отказавшихся от независимости миллиард лет назад. Каждый из нас – это город клеток, а каждая клетка – поселение бактерий. Вы – громадный бактериальный мегаполис. Разве это не снимает с глаз наркотическую пелену?
Микроскоп помогает нашему разуму протискиваться по странным извилистым коридорам клеточных мембран, а телескоп возносит нас к далеким галактикам. Еще один, аналогичный, способ отойти от анестезии – это совершить в своем воображении обратное путешествие сквозь геологические эпохи. Нечеловеческий возраст ископаемых – вот что приводит нас в чувство и возвращает к действительности. Мы поднимаем с земли трилобита, и книги говорят нам, что ему 500 миллионов лет. Но мы не в состоянии постичь такой возраст, и в том, чтобы попытаться сделать это, есть некое томительное удовольствие. В ходе эволюции наш мозг научился распознавать временные отрезки, сопоставимые с продолжительностью человеческой жизни. Секунды, минуты, часы, дни и годы – все это для нас просто. Кое-как управляемся мы и с веками. А вот когда доходит до тысячелетий, по нашим спинам начинает пробегать холодок. Эпические мифы Гомера, деяния греческих божеств Зевса, Аполлона и Артемиды, древнееврейские герои Авраам, Моисей, Давид и их вселяющий ужас бог Яхве, древние египтяне со своим богом солнца Ра – все это вдохновляет поэтов и вызывает в нас трепет от ощущения чего-то неимоверно стародавнего. Нам кажется, будто мы проникаем взглядом сквозь жуткую мглу времен в гулкую и загадочную древность. Однако с точки зрения нашего трилобита эти прославленные древности были даже не вчера.
Я тут уже немало сгущал краски, попробую сгустить их еще сильнее. Давайте напишем историю одного года, воспользовавшись одним-единственным листком бумаги. Места для подробностей при таком подходе останется немного. Это будет чем-то напоминать краткие “итоги года”, какими нас неизменно потчуют все газеты 31 декабря. На каждый месяц уйдет не более нескольких предложений. А теперь возьмите другой лист бумаги и напишите на нем историю предыдущего года. И так продолжайте конспективно набрасывать хронику событий всех предшествующих лет из расчета один лист – один год. Затем переплетите эти листки в книгу и пронумеруйте их. Гиббонова “История упадка и разрушения Римской империи” (1776–1788 гг.) охватывает около 13 столетий и занимает шесть томов примерно по 500 страниц каждый, то есть продвигается во времени со скоростью, близкой к той, о которой мы сейчас говорим.
“Еще одна чертова толстая, квадратная книга. Всё царапаем, царапаем, царапаем! Так, мистер Гиббон?”
Уильям Генри, первый герцог Глостерский и Эдинбургский (1829 г.)[5]Роскошно изданный “Оксфордский словарь цитат” (1992 г.), откуда я только что списал это высказывание, – сам по себе чертов толстый квадратный кирпич. И как раз подходящего размера, чтобы довести нас до времен царствования Елизаветы I. У нас есть грубое мерило для оценки времени: 4 дюйма, или 10 сантиметров, книжной толщины на историю одного тысячелетия. Давайте, вооружившись этим мерилом, углубимся в незнакомый мир таинственных геологических эпох. Книгу о самом недавнем прошлом мы положим прямо на пол, а книги о предшествующих веках будем складывать сверху. Итак, перед нами стопка книг как наглядный измерительный прибор. Скажем, если мы захотим почитать про Иисуса, нам понадобится том, расположенный в 20 сантиметрах от пола, то есть чуть повыше щиколотки.
Один знаменитый археолог раскопал воина бронзового века с прекрасно сохранившейся погребальной маской и возликовал: “Я посмотрел в лицо Агамемнону!” Он пребывал в состоянии поэтического благоговения от того, что проник в баснословную древность. Чтобы отыскать Агамемнона в нашей стопке книг, нам придется нагнуться где-то до середины голени. Неподалеку обнаружились бы Петра (“алый город, времени ровесник”[6]), царь царей Озимандия (“Взгляните на мои деянья и дрожите!”[7]) и такое загадочное чудо Древнего мира, как вавилонские висячие сады. Ур Халдейский и Урук – город легендарного героя Гильгамеша – пережили свою эпоху несколько ранее, и вы сможете прочесть сказания об их основании, поднявшись еще чуть выше по собственной ноге. Примерно там же будет и самая древняя дата вообще – если верить Джеймсу Ашшеру, архиепископу, жившему в XVI веке и вычислившему, что Адам и Ева были сотворены в 4004 году до нашей эры.
Укрощение огня было переломным моментом истории: от него берут начало почти все технологии. Как же высоко в нашей стопке книг будет находиться страница с записью об этом грандиозном достижении? Если вспомнить, что на стопку, охватывающую всю письменную историю человечества, мы можем с комфортом усесться, то ответ будет неожиданным. Археологические находки позволяют сделать вывод, что огонь научились использовать наши предки Homo erectus, но неизвестно, то ли они его добывали, то ли просто таскали с собой. Они обзавелись огнем полмиллиона лет назад, то есть, чтобы справиться об этом открытии в книге из нашей стопки, вам придется вскарабкаться чуть повыше статуи Свободы. Головокружительная высота, особенно если учесть, что первое упоминание о Прометее, мифическом похитителе огня у богов, будет расположено в той же книжной стопке немного ниже вашего колена. Чтобы прочитать о Люси и о наших африканских предках австралопитеках, вам понадобится залезть выше любого здания в Чикаго. А биография предка, общего для нас и для шимпанзе, будет предложением в книге, расположенной еще вдвое выше.
Однако это только самое начало нашего путешествия назад к трилобиту. Насколько высокой должна быть стопка книг, чтобы в ней нашлось место для страницы, где были бы вскользь увековечены жизнь и смерть этого трилобита, плескавшегося в мелком кембрийском море? Ответ: около 56 километров, или 35 миль. Мы не привыкли иметь дело с такими высотами. Вершина горы Эверест не достигает и 9 километров над уровнем моря. Некоторое представление о возрасте трилобита можно получить, повернув нашу башню из книг на 90 градусов. Вообразите себе книжную полку, которая в три раза длиннее острова Манхэттен и вся заставлена томами формата гиббоновской “Истории упадка и разрушения”. Если на каждый год отведено по одной странице, то дочитать до трилобита будет делом более трудоемким, чем произнести по буквам содержимое всех 14 миллионов томов, что хранятся в Библиотеке Конгресса. Но даже трилобит молод по сравнению с жизнью как таковой. Древние, химические по своей природе, жизни первых живых существ, общих предков трилобита, бактерий и нас с вами, окажутся упомянутыми в первом томе нашей саги. Первый том будет находиться на самом дальнем конце нашей нескончаемой книжной полки. А вся эта полка могла бы протянуться от Лондона до шотландской границы. Или через всю Грецию, от Адриатического моря до Эгейского.
Возможно, такие расстояния недостаточно наглядны. Когда речь идет о больших числах, искусство придумывания аналогий состоит в том, чтобы не выходить за пределы шкалы измерений, которую человек в состоянии осмыслить. В противном случае аналогия будет не проще реальности. Прочитать от корки до корки многотомный исторический труд, занимающий полку протяженностью от Рима до Венеции, – непостижимая для разума задача. Примерно столь же непостижимая, как и голое число 4 000 000 000 лет.
Вот другая аналогия, и мы будем не первыми, кто ею воспользовался. Раскиньте руки как можно шире, будто пытаясь в эмоциональном порыве охватить всю эволюцию от ее начала, находящегося у крайнего кончика пальцев вашей левой руки, до сегодняшнего дня – у крайнего кончика пальцев правой. На всем пути, минующем срединную линию вашего тела и даже правое плечо, жизнь будет представлена исключительно бактериями. Мир многоклеточных беспозвоночных расцветет примерно в районе вашего правого локтя. Динозавры возникнут в середине вашей правой ладони, а вымрут около последнего сустава пальцев. Всю историю Homo sapiens и его предшественника Homo erectus можно будет состричь вместе с ногтями. Ну а письменная история: шумеры, вавилоняне, библейские патриархи, династии фараонов, римские легионы, Отцы церкви, незыблемые законы мидийские и персидские, Троя и греки, Елена, Ахилл и ахейские мужи, Наполеон и Гитлер, “Битлз” и Билл Клинтон – все они, и все, кто их знал, улетят вместе с пылью от одного легкого прикосновения пилки для ногтей.
Несчастных быстро забывают,Числом они превосходят живых, но где же их кости?Ведь на каждого живого приходится миллион умерших,Неужто их прах ушел в землю и оттого нигде не виден?Но тогда нам бы не хватало воздуха, чтобы дышать в этой толще праха,Ветру было бы некуда дуть, а дождю капать.Земля была бы облаком пыли, грудой костей,Где уже не оставалось бы места даже для наших скелетов.Сешеверелл Ситуэлл, “Гробница Агамемнона” (1933 г.)Не то чтобы это было важно, но в третьей строчке у Ситуэлла ошибка. По имеющимся подсчетам, ныне живущие люди составляют существенную долю всех тех людей, что когда-либо существовали. Но это только лишь отражает могущество экспоненциального роста. Если же мы будем учитывать не организмы, а поколения – особенно если не ограничиваться человечеством и обратиться к самым истокам жизни, – то испытаем чувства Сешеверелла Ситуэлла с новой остротой. Давайте предположим, что с тех пор, как чуть более полумиллиарда лет назад наступил расцвет многоклеточной жизни, каждому нашему прямому предку по женской линии суждено было умереть на могиле собственной матери и впоследствии превратиться в окаменелость. Как и в случае с различными историческими пластами погребенного города Трои, здесь многое подверглось бы сдавливанию и утрамбовке, так что давайте будем исходить из того, что каждое ископаемое в нашем ряду сплющено в блин толщиной один сантиметр. Какой же толщины должна быть горная порода, способная вместить такую непрерывную палеонтологическую летопись? Ответ: около 1000 километров, или 600 миль. Примерно в десять раз больше, чем толщина земной коры.
Большой каньон, чьи скалы, от дна до поверхности, охватывают значительную часть того периода, о котором мы ведем здесь речь, всего около одной мили глубиной. Если бы его геологические напластования состояли исключительно из ископаемых остатков без какой-либо другой горной породы между ними, то и тогда они смогли бы приютить примерно 1/600 всех умерших одно за другим поколений. Этот подсчет помогает нам умерять запросы религиозных фундаменталистов, требующих предъявить им “непрерывную” цепь постепенно меняющихся ископаемых, прежде чем они признают факт эволюции. У скал Земли просто нет места для подобной роскоши – их объем на много порядков меньше. С какой стороны на это ни посмотреть, лишь ничтожно малому числу созданий выпала удача стать окаменелостью. Как мне уже приходилось говорить прежде, я почел бы это за честь.
Количество мертвых намного превосходит число всех, кто будет жить. Ночь времен несравнимо длиннее дня, и кто знает, когда было Равноденствие? Каждый час добавляет еще к этой текущей Арифметике, которая вряд ли остается неизменной хотя бы одно мгновение… Как знать, лучшие ли из людей нам известны и не оказались ли забыты личности более выдающиеся, чем те, кого мы помним из известных нам времен?
Сэр Томас Браун, “Погребение в урнах” (1658 г.)Глава 2
Герцогская гостиная
Хоть смешай ты их души в едином котле,Хоть свяжи их, хоть склей их друг с другом, Но один устремится за радугой вслед, А другой поплетется за плугом.Джон Бойл О'Рейли (1844–1890), “Сокровище радуги”Лучше всего прорываться сквозь анестезию повседневности получается у поэтов. Это их работа. Но слишком многие поэты в течение слишком долгого времени не замечали того, какой богатый источник для вдохновения дарует им наука. Уистен Хью Оден, ведущий поэт своего поколения, самым лестным образом симпатизировал ученым, но даже он выделял преимущественно практический аспект, сравнивая ученых с политиками (не в пользу последних), а вот поэтического потенциала науки как таковой не осознавал.
Подлинными людьми дела – теми, кто меняет мир, – являются в наши дни не политики и не государственные деятели, а ученые. К сожалению, поэзия не может прославлять их, ибо их деяния связаны с вещами, а не с лицами и, следовательно, безмолвны. Оказываясь в компании ученых, я чувствую себя бедным викарием, который по ошибке забрел в гостиную, полную герцогов.
“Поэт и город”, из сборника “Рука красильщика” (1963 г.)Забавно, но примерно то же самое я, как и многие другие ученые, чувствую, оказываясь в компании поэтов. В действительности же (и я еще вернусь к этому вопросу) именно такова, вероятно, нормальная для нашей культуры оценка взаимоотношений между учеными и поэтами – в противном случае Оден вряд ли счел бы свою позицию достойной отдельного упоминания. Но откуда взялась его уверенность в том, что поэзия не способна прославлять ученых и их деяния? Пусть ученые и в самом деле меняют мир более эффективно, чем политики и госслужащие, но это далеко не все, чем они занимаются, и уж точно не все, что они могли бы сделать. Еще ученые преображают нашу манеру размышлять обо всей огромной Вселенной. Они помогают нашему воображению проникнуть и к раскаленному началу времен, и в вечный холод далекого будущего – выражаясь словами Китса, “взлететь и на Путь ступить Млечный”[8]. Разве безмолвная Вселенная – не достойная тема для творчества? Почему поэт должен воспевать только личностей, но не создавшую их неспешную работу природных сил? Дарвин отважно попытался это сделать, хоть область его талантов и далека от поэзии:
Интересно рассматривать густо заросший клочок земли, покрытый разнородными растениями, с поющими птицами в кустах, с насекомыми, толкущимися вокруг них, с червями, ползущими по влажной почве, и подумать, что эти дивно построенные формы, столь отличные одна от другой и одна от другой зависимые таким сложным способом, все возникли по законам, действующим вокруг нас. Эти законы, в обширнейшем их смысле, суть развитие и воспроизведение; наследственность, почти необходимо связанная с воспроизведением; изменчивость, обусловленная прямым или косвенным действием жизненных условий, а также деятельностью и бездействием органов; прогрессия размножения, столь быстрая, что ведет к борьбе за существование, а следовательно, и к естественному подбору, с коим неразрывны расхождение признаков и вымирание менее усовершенствованных форм. Так из вечной борьбы, из голода и смерти прямо следует самое высокое явление, которое мы можем себе представить, а именно – возникновение высших форм жизни. Есть величие в этом воззрении, по которому жизнь с ее разнородными силами была вдохнута первоначально в немногие формы или лишь в одну; по которому, меж тем как Земля продолжает кружиться по вечному закону тяготения, из столь простого начала развились и до сих пор развиваются бесчисленные формы дивной красоты[9].
“Происхождение видов” (1859 г.)Сферой интересов Уильяма Блейка были религия и мистика. И однако же я был бы счастлив подписаться под каждым словом следующего знаменитого четверостишия, хотя в моем случае источник вдохновения и смысл этих строк были бы во многом иными.
В одном мгновенье видеть вечность,Огромный мир – в зерне песка,В единой горсти – бесконечностьИ небо – в чашечке цветка[10].“Прорицания невинности” (ок. 1803 г.)Кажется, будто вся эта строфа – о науке, о пребывании в движущемся луче фонарика, об укрощении времени и пространства, об огромном мире, состоящем из ничтожно малых квантовых зернышек, об одном-единственном цветке как о миниатюрном воплощении всей эволюции. Ровно то же самое стремление благоговеть, преклоняться и изумляться, которое привело Блейка к мистицизму (а менее крупных личностей, как мы дальше увидим, – к суеверному увлечению “паранормальным”), многих других привело в науку. Наше воображение будоражат одни и те же явления, хоть мы и трактуем их по-разному. Мистик довольствуется тем, что смакует чудеса и упивается таинствами, которые нам якобы не дано понять. Ученый испытывает точно такое же изумление, однако ему этого мало. Он признает, что тайна велика, а потом добавляет: “Но мы работаем над этим”.
Блейк не любил науку, даже боялся и презирал ее:
Ньютона с Бэконом стальные порожденьяНависли, словно бич, над Альбионом,Их доказательства опутали меня,Как змеи длинные…“Бэкон, Ньютон и Локк”, из поэмы “Иерусалим” (1804–1820 гг.)Какое разбазаривание поэтического дара! И даже если правы модные толкователи, настаивающие на том, что у этих стихов имеется политический подтекст, разбазаривание все равно остается разбазариванием – ведь политика и ее заботы так преходящи, так сравнительно ничтожны. Я же здесь хочу сказать, что поэты могли бы с пользой для себя активнее вдохновляться наукой, а ученым в то же время следовало бы не упускать из виду ту аудиторию, которую я ассоциирую, условно говоря, с поэтами.
Разумеется, речь идет не о том, что о науке нужно говорить стихами. Рифмованные двустишия Эразма Дарвина, деда Чарльза, хотя и были на удивление благосклонно приняты современниками, науку вперед не двигают. И если ученому не повезло обладать талантом Карла Сагана, Питера Эткинса или Лорена Айзли, то ему не нужно и вырабатывать особый образно-поэтический язык для своих рассуждений. Простой, трезвой ясности, позволяющей фактам и мыслям самим говорить за себя, хватит с лихвой. Поэзия заключена в самой науке.

