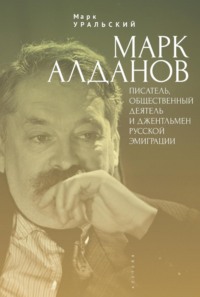
Марк Алданов. Писатель, общественный деятель и джентльмен русской эмиграции
Киеву как «альма-матер» повезло с мыслителями «серебряного века»: здесь родились и жили такие выдающиеся русские философы-персоналисты, как Николай Бердяев и Лев Шестов. С ними Марк Алданов познакомился и поддерживал отношения в 1920-х гг., находясь уже в эмиграции. В одном университете с Алдановым, как он сообщал Василию Маклакову, учился выдающийся русский православный историк Василий Зеньковский:
Книга его об истории русской философии ценна и беспристрастна18. Он очень ученый человек. Мы с ним когда-то учились в университете, но он был тремя курсами старше меня, а с тех пор я его ни разу не видел. В ту пору он был, как и я, на физико-математическом факультете […НЕ-СКРЫВ-МНЕНИЯ. С. 41].
Такова в общих чертах физиономия города, в котором появился на свет Марк Ландау, в котором прошли его детство, отрочество и студенческие годы.
У Алданова можно найти характеристики самых разных городов. Порой они сопровождаются сопоставительными размышлениями о России. Например:
Шартр. Маленький прелестный городок. Утром кажется: здесь бы прожить всю жизнь. А в тот же вечер справляешься: нет ли поезда, чтобы сейчас же уехать.
В двух шагах от знаменитого собора – Maison du Saumon19 – дом XV века. Такие дома во Франции есть везде; у нас, если не ошибаюсь, был только один частный дом, насчитывавший три столетия жизни: обилие лесов в России было несчастьем русского искусства [АЛДАНОВ-СОЧ (VI)].
Сложил Алданов и своего рода хвалебную песню «Мiй Кiев»:
Большой сезон открылся очень рано, еще до морозов. Обычно он в Киеве начинался позднее: со знаменитой ярмаркой, называвшейся «Контрактами». На нее съезжались не только купцы со всех концов России, но и помещики, великорусские, малорусские, польские, даже те, которые никаких контрактов заключать не предполагали. Ярмарка была перенесена в Киев приказом Павла I из какого-то другого города, и обычаи на ней были очень старые, частью русские шестнадцатого века, частью польские, частью даже перешедшие с турецких рынков. Были ряды серебряный, суконный, шелковый, меховой, ковёрный, ножевой, восточных ароматов. Всё продавалось очень дешево <…>. Особенно славились сласти, варенье, пряники.
Киевские купцы признавались иностранцами самыми честными в России после псковских (худшими считались московские). Торговали преимущественно хохлы, но также кацапы, евреи, армяне и греки. Как- то все уживались. <…>.
Сглаживалась национальная рознь и в обществе. Коренные хозяева города вообще недолюбливали и великороссов, и поляков. С поляками были вековые исторические счеты. В домах коренных киевлян можно было услышать иронические словечки о «панах». Приглашая гостей к ломберному столу, хозяин благодушно говорил: «До брони, панове, до брони!..» За игрой люди ставили карбованцы «на алтарж ойчизны» или, признаваясь в опрометчивом ходе, поясняли: «Мондрый поляк по шкодзе». Так и нерасположение к великороссам выражалось преимущественно в разных словечках и поговорках: «С кацапом дружись, а за саблю держись», «От москаля хоть полы обрежь, да беги!», «Коли москаль скаже “сухо”, поднимайсь по самое ухо, бо вин бреше», «Мамо, черт лезе в хату! – Дочка, абы не москаль!».. Да еще иногда пили в память Мазепы. В пору контрактов и это смягчалось <…>. Сахарные заводы строили в губернии великороссы, украинцы, поляки, евреи, немцы, и в деловых отношениях никто с национальностью не считался. Политикой в Киеве интересовались мало. <…> К действиям петербургского правительства относились иронически. Когда одновременно были заложены какой-то дворец и какой-то мост, остряки в Киеве так определяли разницу: «дворца мы не увидим, но его увидят наши дети; мост увидим мы, но наши дети его не увидят; отчета же в деньгах не увидит никто на земле». Впрочем, сходную шутку приписывали в Петербурге князю Меншикову. К западным странам ни малейшей враждебности не чувствовали; напротив – относились с большим интересом и уважением Позднее патриотические куплеты Ленского: «…Где вам, западные цапли, – до российского орла» в Киеве ничего не вызывали, кроме насмешек над сочинителем.
Перестройке и украшению древнего города способствовали вечные пожары. На них обычно, даже ночью, приезжал сам «Безрукий», – так в Киеве называли генерал-губернатора Бибикова, потерявшего руку в Бородинском сражении. При нем в городе шла годами перестройка20. Центр переходил с Печерска в прежнюю Крещатикскую долину. Там уже возвышался над другими домами двухэтажный почтамт и говорили, что скоро будет выстроен каким-то отчаянным человеком трехэтажный дом. Прежнее Кловское урочище уже называлось Липками, хотя великолепные липы главной аллеи давно были вырублены. Липки, особенно же Шелковичная, позднее Левашевская, улица, стали аристократической частью города. На Печерске, на Подоле, в Старом городе чуть не на каждых воротах висела дощечка с надписью «К слому», – владельцам разваливавшихся домов отводились бесплатно участки земли за Бессарабкой и у Золотых Ворот. Открывались всё новые магазины, и чтобы никого не отталкивать в разноплеменном населении, владельцы часто составляли вывески на французском языке: «Magasin de братья Литовы», «Magasin de Ривка», «Magasin de Грицько Просяниченко».
Большой весенний сезон открывался балом, который дворянство давало генерал-губернатору. Затем на город начинал литься золотой дождь. Богатые вельможи приезжали в Киев, захватив с собой боченки золота и серебра: хотя в городе уже существовало отделение государственного банка, помещики к нему относились недоверчиво. Деньги тратились очень быстро, особенно вследствие карточной игры. В польском обществе говорили: «Варшава танцует, Краков молится, Львов влюбляется, Вильна охотится, Киев играет в карты». <…>.
Русские <…> спектакли пользовались большим успехом. Шел «Гамлет», сочинение г. Висковатого, подражание Шекспиру в стихах. Шел «Ревизор», с «Настоящим Ревизором», продолжением сочинения г. Гоголя. Шли «Роберт-Дьявол», сочинение г. г. Скриба и Делавиня под музыку г. Мейербера, «Кремнев, русский солдат», народное представление с военными песнями и танцами, сочинение г. Русского Инвалида, «Никому кроме короля, или хлебопашец каштанового леса», сочинение г. Дона Франциска де Рохас, «Знаменитые разбойники», большой балет, сочинение г. Дидло. Ставились «Двумужница», «Отелло», «Полковник старых времен», «Матушкина дочка, или суматоха на даче». Труппа была только одна, так что одна и та же любимица публики спасала своим кротким пением мятущуюся душу Роберта- Дьявола, декламировала куплеты «Смирно, женщины» и в венгерской хижине танцовала перед знаменитыми разбойниками. Перед бенефисами видные артисты и артистки объезжали помещиков и купцов первой гильдии и оставляли им почетные, отпечатанные золотом на атласной бумаге, билеты. К купцам второй гильдии ездили редко, так как те были люди малообразованные, – кричали во время спектакля, когда хорошей девушке грозила опасность от злодея: «Не поддавайся, Маша!»
На ровных параллельных Крещатику улицах Липок тянулись одноэтажные дома, почти все деревянные: лес был очень дешев, да и жить в каменных домах считалось вредным для здоровья. В старом городе были площади больше парижской «Place de la Concorde», прекрасные церкви и монастыри, – некоторые древнее Кёльнского собора. Над Днепром и позади нового университета были лучшие в России бесконечные сады, – киевляне язвительно говорили столичным жителям: «Да-с, это вам не Летний сад и не ваши московские огороды»! Весь необыкновенный по красоте город именно утопал в зелени.
Люди ходили по Крещатику медленнее, чем петербуржцы по Невскому, а после обеда спали дольше, – торопиться здесь было уж совсем некуда. Непристойных слов употребляли, по сравнению с Великороссией, очень мало, но непристойных примет было достаточно. Кое-кто, как и в Великороссии, не ел картофеля, приписывая ему весьма странное происхождение. Ели же вообще и пили много. В Киеве не было таких богачей, как в Петербурге, но средний класс, в который уже входили и так называемые разночинцы, жил, пожалуй, лучше, чем в столицах. <…> … в Киеве, во всяком случае, гастрономия была <…> утонченная. Из Одессы привозились устрицы и кефаль. Белугу и стерлядь доставляли с Шексны, так как считалось, что волжская рыба, входя в Шексну, становится гораздо лучше. Порою даже привозилось из Беловежской пущи мясо зубров. Только в напитках Киев еще отставал от столиц. Шампанское, которым завоевал Елизавету Петровну и ее двор маркиз де ла Шетарди, распространялось по России медленно. В Киеве его подавали лишь в самых богатых домах. Пили больше вареный и ставленный мед, наливки, водку всех национальностей: русскую, кизлярку, горилку, пейсаховку. Сами варили пиво и держали его в боченках на дне колодцев. Свои колодцы были во многих домах. В другие же доставляли воду водовозы. Вопреки всем литературным традициям, они не были кривыми, не играли на бандуре и не пели «старинных казацких песен о Наливайко и Сагайдачном».
Гостеприимство было сказочное. За обедом, после какого-нибудь десятого блюда, хозяева приставали к гостю: «Верно, не вкусно? А то, может, вы нас не любите? Чем же мы вас обидели?» – и гость с готовностью ел одиннадцатое блюдо. Люди непьющие, непейки, доверием не пользовались и чуть даже не казались подозрительными: уж не шулер ли?
Шулера в Киев, в пору контрактов, съезжались даже из-за границы. Играли в банк, в вист, в ломбр, в квинтич. Устраивались частные и общественные балы. На них танцевали круглый польский, мазурку, французскую кадриль; были записные танцоры, учившиеся у самого Сосницкого: этот знаменитый петербургский актер, поляк по происхождению, считался лучшим танцором в России и давал уроки мазурки. Мылись казанским яичным мылом, а лет за двадцать до того появился и одеколон. По утрам ездили в Минерашки над Днепром и пили там кислые воды. Многие дамы умели падать в обмороки коловратности и Дидоны, давно вышедшие из моды в столицах.
По вечерам на гулянье в Минерашках почти всегда можно было увидеть осанистого человека в странном, похожем на халат, синем с золотым шитьем одеянии. На него, как на достопримечательность, киевляне показывали приезжим: «Да, тот самый: убийца Лермонтова!» Лицо у Мартынова было скорбно-таинственное. Гулял он всегда с дамой тоже таинственного вида. Один шалый киевский студент, весельчак и силач, держал пари, что на гулянье поцелует эту даму. Пари он выиграл, к большому удовольствию «Безрукого», который очень недолюбливал скорбно-таинственного человека. Студенты вообще жили в Киеве весело, учились мало, переполняли кондитерскую Беккера и Английскую гостиницу, играли на биллиарде и в карты, – кто-то из них прославился тем, что дочиста обыграл и оставил без гроша заезжего Франца Листа. Весело жили и офицеры, чиновники, профессора.
Быт был вековой, отстоявшийся, уютно-провинциальный, – такой быт, о котором с грустью и любовью позднее вспоминают люди, прожившие бурную жизнь. И все же где-то, почти незаметно, шло так называемое «брожение». Либерализм молодежи, правда, сказывался преимущественно в том, что студенты, рискуя карцером, выходили на улицу в табельные дни не в парадном мундире, или без треуголки, или без шпаги. Но были также маленькие революционные кружки, особенно польские, – дело одного кружка кончилось трагически, отдачей в солдаты и даже каторжными работами. Было украинское общество Кирилла и Мефодия. Среди отсталого еврейского населения читались воззвания короля Зигфрида-Юстуса I: какой-то немецкий купец из Герлитца, христианин, Фридрих Густав Зейфарт, по непонятным причинам объявил себя сионистом, еврейским королем, освободителем Израиля и выдавал дипломы за услуги по предстоявшему завоеванию Палестины.
Большинство же пятидесятитысячного населения города, вообще ничем таким не интересовалось. Люди только разводили руками, если что всплывало на поверхность, особенно если начиналось следственное дело. В общем, все любили Киев и с гордостью передавали слухи, будто император хочет сделать его третьей столицей. Охотно живали в нем и великороссы, «Как хорош, как хорош Киев, как я люблю этот город!» – писал позднее Иван Аксаков [«Повесть о смерти» АЛДАНОВ-СОЧ (IV)].
Киев слыл так же столицей проституции. В городе насчитывалось более 29 домов терпимости, десятки тайных притонов, замаскированных под мастерские или дешевые «минерашки», где, выпив стакан минеральной воды, можно было поиметь девицу за пятак; пятым в списке самых распространенных заболеваний среди населения был сифилис. Александр Куприн в повести «Яма» (1905 г.) описывает Киев конца XIX – начала XX вв. как «сплошной бордель» – см. [КРАСОВСКАЯ]. Нельзя не отметить, что повышенный «эротический импульс» Киев-града на темпераменте Алданова не сказался. Несмотря на то, что молодой Алданов был весьма хорош собой, его личный интерес к прекрасному полу, по всей видимости, не выходил за границы основной черты его характера – умеренной сдержанности. Современники даже считали его женские образы безжизненно схематичными. Александр Бахрах пишет:
Писательская натура Алданова затрудняла ему выпуклое изображение женских типов. Женскую капризность и переменчивость он внутренне не чувствовал. Его женщины все по одному шаблону – либо матроны, либо их подрастающие дочери. Он относится к ним с интересом и даже порой с нежностью, но едва ли их понимает и они точно описаны с чьих-то чужих слов [БАХРАХ (II). С. 160].
А вот высказывание на сей счет Василия Яновского, самого язвительного мемуариста эмиграции «первой волны», особенно по отношению к литературным знаменитостям из старшего поколения:
На Монпарнасе <Георгий> Иванов цитировал строчку из нового отрывка Алданова: там его героиня Муся старалась походить на женщину. Алданов, увы, был вне сексуальных тяжб21. Как многие наши гуманисты, он, однажды обвенчавшись, этим самым разрешил все свои интимные проблемы: ни разу не изменив жене и ни разу не прижив с ней ребенка [«Поля Елисейские» ЯНОВСКИЙ В.].
В «Повести о смерти» Алданов делает особый акцент на том, что даже такому знаменитому французу, как Оноре де Бальзак, нравилось жить в «варварской» – по мнению многих его соплеменников, России. Ему особенно приятно, что великий парижанин восхищался его родным Киевом22: Бальзак называл его «северным Римом» и, сравнивая этот древний западнорусский город с другими российскими столицами, писал:
Петербург23 – город-младенец, Москва – взрослый человек, Киев же – старец, чей возраст – вечность [БАЛЬЗАК].
Марк (по метрикам Мордехай-Маркус) был вторым ребенком, родившемся 26 октября/7 ноября 1886 года в интеллигентной и очень состоятельной еврейской семье австровенгерского подданного Израиля (Александра) Моисеевича Ландау и Шифры (Софьи) Ионовны Ландау, урожденной Зайцевой. К моменту рождения у него уже был старший брат Лев (Иосиф-Лейба; 1884 г.р.)24, а впоследствии появились младшие брат – Яков (1889 г.р.) и сестра – Любовь (1893 г.р.). Татьяна Осоргина – последняя жена писателя-эмигранта Михаила Осоргина25, рассказывала26, что подбор достойного жениха для Софьи Ионовны Зайцевой продолжался довольно долго, из-за отсутствия в ближайшем окружении Зайцевых достойного кандидата. В конце концов, Зайцевы выписали из Австро-Венгрии молодого еврея хорошей семьи, сына раввина, чтобы он женился на их дочери, будущей матери Марка Александровича27. Сам Алданов, по понятным причинам28, не очень любил говорить об этом.
Однако в статье «Русские евреи в 70–80-х годах» (1942 г.)29 он все же отметил, что его прадед по отцу был главным раввином Праги (sic!). Без всякого сомнения, Алданов имел в виду Йехезкеле Ландау – видного еврейского общественного деятеля и галахического авторитета XVIII века.
В 1754 г. он был приглашен на один из самых важных постов в руководстве центральноевропейским еврейством – раввина Праги и всей Богемии. Представляя евреев Богемии перед австрийскими властями, Ландау развернул также активную общественную и раввинистическую деятельность. В Праге он возглавлял одну из крупнейших иешив того времени, привлекавшую сотни учащихся из разных стран. Главный труд Ландау «Нода б-Ихуда» (ч. 1 – 1776; ч. 2 – 1811) <…> неоднократно переиздавался с глоссами и комментариями видных ученых позднейших поколений, как и его другие сочинения в области Галахи <…>. Сборник проповедей и надгробных речей Ландау «Ахават Цион» («Любовь к Сиону») вышел в свет в 1827 г.
<…>
Первоначально благосклонное отношение Ландау к Хаскале изменилось под влиянием нападок некоторых ее деятелей на раввинов. Ландау запретил пользоваться Библией на немецком языке <…>, «дабы не стала наша Тора прислужницей и распространительницей среди населения чужой речи» <…>.
Несмотря на это, Ландау не возражал против занятий историей, грамматикой, естественными науками и т.п. <…> … призывал евреев к укреплению корректных отношений с нееврейской средой и к лояльности по отношению к государству.
Многие галахические решения Ландау отличаются смелостью и терпимостью, свидетельствующими о сознании им своей ответственности перед общиной и умении находить компромисс между постановлениями Галахи и требованиями времени30.
Как пример «иронии судьбы» отметим, что рабби Йехезкель Ландау, чей правнук вошел в либерально ориентированную хасидскую семью Зайцевых, являлся не только противником либерализма в духе Хаскалы, но и зародившегося в середине ХVIII в. хасидизма. Вот что об этом пишет сам Алданов:
Известный главный раввин Праги Иехезкл Ландау, прадед31 пишущего эти строки, был подлинной крепостью консерватизма. Он был политическим и идеологическим противником либералов, во главе которых стоял тогда Моисей Мендельсон. На похоронах королевы <Марии-Терезии > пражский раввин произнес пламенную монархическую речь. У моего отца в библиотеке находилась письмо канцлера Марии-Терезии, графа Кауница, адресованное этому реакционном раввину. О нём существует обширная,но мало известная литература, к который я не имел доступа [АЛДАНОВ (I). С. 52].
Спустя семь лет в письме из Ниццы к своему хорошему знакомому Г. Лунцу от 21 июля 1949 года Алданов сообщает о том, что миллионер-меценат из среды русской эмиграции Френк Атран:
Атран <…> по воздушной почте прислал мне статью из «Форвертса» о семье Ландау и заодно обо мне! По моей просьбе, мне ее здесь перевел знакомый. Очень мило написано, генеалогическая эрудиция автора замечательная, но у него, видно, есть свободное время [М.А.-ПИСЬМА-НИЦЦА].
Речь идет о статье известного еврейского публициста и общественника Гершона Света «Потомок пражского гаона р. Иехезкеля Ландау получила в Нью-Йорке литературную премию» в нью-йоркской еврейской «Форвертс» от 2.07.1949 г.32 В статье рассказывается о некоей американской аспирантке по фамилии Ландау, являющейся прямым потомком пражского раввина Иехезкела Ландау. Молодая женщина-ученый получила престижную премию за работы в области филологии. Одновременно автор приводит обширные сведения о еврейском роде Ландау, давшем миру много талантливых людей. Среди двух десятков носителей этой фамилии – раввинов, врачей, журналистов и т. д., упомянут также и Марк Алданов, как выдающийся русский романист, чьи произведения в переводе на идиш публиковались, в частности, и в «Форвертс». В статье также говорится о прямом родстве Марка Ландау-Алданова с Ионой Зайцевым, причем этот факт подается в связке с «делом Бейлиса».
Как видно из текста письма, восторга по поводу этой публикации Алданов не выказал. С учетом же присущей ему корректности в выражениях, касающихся третьих лиц, фразу «у него, видно, есть свободное время», можно трактовать как показатель глубокого равнодушия писателя к еврейскому контексту, даже в случае, когда его имя в нем упоминается в высшей степени комплиментарно.
Судя же по родословному древу Йехезкеля Ландау33 и сообщению, полученному из архива Еврейского культурного сообщества Вены (IKG Wien), у знаменитого «Пражского рава» было нескольких сыновей. Один из них – рав Израиль Ландау (1758–1829), живший в Кракове, Львове и Бродах34, имел от второго брака сына – рава Элизара Ландау (1778–1831), а у того, в свою очередь, имелся сын Мозес, родившийся ок. 1815 г. в городе Броды или Кракове и служивший затем раввином в Кракове и Пинске35. Его младший сын Израиль бен Мозес (Израиль Моисеевич) Ландау – правнук «Пражского рава» Йехезкеля, родившийся, по-видимому, где-то в районе 1850 г., вопреки семейной традиции стал не раввином, а предпринимателем. Он перебрался на жительство в Российскую империю, занялся производством сахара на Волыни и женился на Шифре (Софье) Зайцевой, дочери киевского «сахарного магната» Ионы Зайцева. Скончался Израиль Ландау где-то ок. 1903 года, т.е. сравнительно молодым36. В Государственном архиве Киевской области (ДАКО) хранится дело «По ходатайству австрийского подданного еврея Израиля Ландау о принятии его с семейством в подданство России», датированное 1896–1897 гг.37. По-видимому, и это прошение тогда было отклонено, т.к. в архиве имеется дело «По ходатайству австрийского подданного Мордехая-Маркуса Ландау о принятии его в подданство России», датированное 1908–1909 гг.38 с положительным по нему решением. Судя по этим документам, можно полагать, что царское правительство всячески затрудняло получение евреями, даже из состоятельных сословий, гражданства Российкой империи. В результате некоторой либерализации законадательства после революции 1905–1907 гг. в этом вопросе имели, видимо место, некоторые послабления.
Таким образом, упомянутый выше Марком Алдановым «Известный главный раввин Праги Иехезкл Ландау» приходится ему не прадедом, а прапрадедом с отцовской стороны. Сам же будущий знаменитый русский писатель и горячий патриот «великой России» по рождению был австрийцем и стал поданным Российской империи уже в зрелом возрасте, будучи 23 лет от роду (sic!)39.
Мать же Марка (Мордехая-Маркуса Ландау) – урожденная Софья (Шифра) Ионовна Зайцева являлась дочерью киевского сахарозаводчика купца 1-й гильдии40 Ионы Мордковича (Марковича) Зайцева, чье имя увековечено в истории города Киева – см. [КАЛЬНИЦКИЙ]. У Ионы Зайцева и в Киеве было несколько домов. Сам он жил на Александровской улице в доме в № 17, а расположенный на ней же дом № 49 принадлежал его сыну Маркусу со своими детьми. Софья Ландау проживала в старинном киевском районе Липки по адресу Левашевская (ныне Шелковичная ул.) дом 27. Дом этот, также принадлежавший Ионе Зайцеву41,42, скорее всего, достался ей по наследству. Можно с уверенностью полагать, что гимназические и студенческие годы Марка Ландау-Алданова прошли именно в этом доме.
Иона Зайцев был не только миллионером, но и известным филантропом. В 1893 г., например, он основал небольшую бесплатную хирургическую больницу на 7–10 коек в нанятом здании. Это благотворительное учреждение получило название в честь «бракосочетания Их Императорских Величеств (Николая ІІ и Александры Федоровны) 14 ноября 1894 г.», а в 1897 г. выстроил на Кирилловской улице одноэтажное на цокольном полуэтаже каменное здание, в котором расположилась «больница Зайцева». Здесь каждый год проводилось около 400 операций. При больнице действовала также амбулатория, где больные могли бесплатно получить хирургическую, ортопедическую или отоларингологическую консультацию. Главным врачом больницы был знаменитый хирург Григорий Быховский. Хотя больница Зайцева обслуживала, прежде всего, неимущих евреев, кто-либо другой из местной бедноты тоже мог рассчитывать здесь на медпомощь.
В 1899 г. Иона Зайцев приобрел также усадьбу Багреевых с кирпичным заводом43 (там еще продолжались археологические изыскания). Общая площадь его владений под склоном Юрковицы превысила 10 гектаров. Когда почтенный филантроп умер (в 1907 г.), эту недвижимость унаследовал его старший сын Маркус44. Он оказался достойным продолжателем отцовского дела. В начале 1911 г. Зайцев-младший начал строительство новой больницы, в которой предполагалось поместить еврейский приют-богадельню и небольшую синагогу. Возведением красивого сооружения в стилистике модерна руководил выдающийся киевский зодчий, тогдашний главный городской архитектор Эдуард Брадтман.
Однако через несколько дней после того, как газеты известили о закладке богадельни Зайцева, Киев всколыхнула весть о зверском убийстве 13-летнего мальчика по имени Андрей Ющинский. Его мертвое тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли в пещере на склоне Юрковицы, неподалеку от усадьбы Зайцева. Непредубежденные следователи быстро выяснили: произошла уголовная расправа. После первых допросов стало известно о дружбе несчастного Андрюши с детьми местных уголовников и о том, что во время детской ссоры у мальчишки вырвались неосторожные высказывания («А я всем расскажу, что у вас в доме воровской притон!»). Но внезапно течение следственного дела уклонилось от этого направления. Обнаружились «свидетели» из среды местной шантрапы, которые указали на причастность к преступлению еврейского обывателя Менахем-Менделя Бейлиса. Tот был служащим кирпичного завода Зайцева и жил в небольшом домике на территории заводской усадьбы.
Зачем ему было убивать мальчика? Обвинители выдвинули две версии: для того, чтобы воспользоваться христианской кровью для приготовления мацы (приближалась иудейская пасха), или чтобы оросить этой же кровью место сооружения будущей синагоги при богадельне. По указанию из Петербурга официальное следствие принялось отрабатывать ритуальную версию «дело Бейлиса» [ТАГЕР], а сам подозреваемый на два года оказался за решеткой. После длительной следственной волокиты осенью 1913 года в Киевском окружном суде (ул. Владимирская, 15) состоялся судебный процесс, на котором Бейлис был оправдан, хотя настоящие убийцы так и остались ненайденными.