
и звук, и отзвук: из разных книг
Воробьиная ночь
* * * («Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий…»)Что ми шумить что ми звенить давеча рано пред зорями.
«Слово о полку Игореве»Зычный гудок, ветер в лицо, грохот колес нарастающий.Вот и погас красный фонарь – юность, курящий вагон.Вот и опять вздох тишины веет над ранью светающей,и на пути с черных ветвей сыплется гомон ворон.Родина! Свет тусклых полей, омут речной да излучина,ржавчина крыш, дрожь проводов, рокот быков под мостом, –кажется, всё, что улеглось, талой водой взбаламучено,всплыло со дна и понеслось, чтоб отстояться потом.Это весна всё подняла, всё потопила и вздыбила –бестолочь дней, мелочь надежд – и показала тщету.Что ж я стою, оторопев? Или нет лучшего выбора,чем этот край, где от лугов илом несет за версту?Гром ли гремит? Гроб ли несут? Грай ли висит над просторами?Что ворожит над головой неугомонный галдеж?Что мне шумит, что мне звенит издали рано пред зорями?За семь веков не оглядеть! Как же за жизнь разберешь?Но и в тщете благодарю, жизнь, за надежду угрюмую,за неуспех и за пример зла не держать за душой.Поезд ли жду или гляжу с насыпи – я уже думаю,что и меня кто-нибудь ждет, где-то и я не чужой.1970* * * («Заколодило наши пути…»)Заколодило наши пути.Развело – и путей не узнаешь.Жар еще не сошел, погоди!Веет липой – а ты уезжаешь.Сохнут губы, и пальцы как лед.Что случилось? С какого недугатак горячечно липа цветети глаза избегают друг друга?Ни о чем я тебя не прошу,уезжай – наша связь добровольна.На вечерний перрон провожу,уезжай, уезжай – мне не больно!Всё равно! Что тянуть канитель,если память копейки не стоит?Застилай на дорогу постель,и не стоит об этом, не стоит…И когда отшатнувшийся светпоплывет и закружатся тени, – Я любил тебя! – выдохну вследи – ступени, колеса, колени.И экспресс застучит второпях,и стремглав за экспрессом летящимгоры шлака на черных путяхвдруг откроются в небе горящем.Вот и всё. И обдаст колею.И заклинит рычаг семафора.Ничего. Я и это стерплю.…И отпустит. Теперь уже скоро…1970* * * («…И пока гомонит воробьиная ночь…»)…И пока гомонит воробьиная ночь,я скажу тебе так: ни к чему эти счеты.С нас довольно! Не воду ли в ступе толочь –объясняться, когда целый мир на двоих?Мы в расчете со всеми, и эти щедроты –только мелочь надежд, и довольно о них!Воробьиная ночь, это всё ее зной,грозовая испарина душной столицы.Как деревья шумят помертвелой листвой!Как сверкают зарницы, дождем обходя!И, шарахаясь сослепу, мечутся птицы,клювы жадно раскрыв. И ни капли дождя.И ни грусти, ни радости – и никакойни грозы, ни прохлады, лишь ветер горячий,да еще тополя сыплют спермой сухой,да еще прожитое меж пальцев течет,да еще все амбиции, все неудачи,да еще, да еще… О погашенный счет!Всё погашено… Всё, что могли погасить!Для чего же душа еще жжет головешкой?Я, наверно, устал, и обиды сноситьнету сил… Я устал… Это жар или бред?Так чего же ты медлишь? Скорей же, не мешкай,брось мне вызов и ты – это лучший ответ!Чем больнее, тем легче. И прочь этот вздор!Утром дворники встанут и падаль ночную –эти перья и пух, засорившие двор, –на ребячью потеху сгребут и сожгут.Ты – свободна! К чему же тебя я ревную?К безрассудству, с которым и птицы не мрут?Воробьиная ночь, воробьиная мгла.Всё смешалось в одно, а нельзя ошибиться.Я спокоен, и там, где лишь пыль да зола,уголек еще пышет, пытаясь помочь.Я спокоен, спокоен, но страшно решиться.О, пролейся ливмя, воробьиная ночь!1971* * * («Робея, сама прибежала…»)Робея, сама прибежала,накидку смахнула рывкоми, волосы взбив как попало,осыпала талым снежком.А плечи так жарки до дрожи,так мокро топорщится ворс,что только ознобом по кожеи страшно, что это всерьез!Ах, радость моя, успокойся.К чему наводить марафет?Присядем. Не бойся, не бойся.Как зябко! И выключим свет.О чем ты? Как доводы долги.Как руки твои холодны.Не надо, не надо о долге –мы только любимым должны.Да ладно, сочтемся со всеми.Скорей же! – я сам без ума.Скорей! – и колени в колени,и сердце у горла, и тьма.…А там, за тяжелою шторой,где в соснах стоит Орион,протяжно торопится скорый,влача за вагоном вагон.Он буфером буфер толкает,динамо-машиной гремит,стрекочет, стучит, громыхает,спешит, затихает, скрипит…А наша с тобою дорога –навстречу да в две колеи.Ты плачешь? Прости, ради бога!Я руки целую твои.Ты плачешь? Не мучься обманом,смотри, как счастливо горитна пальце твоем безымянномболезненный камень нефрит.И так хорошо, что мы рядом,что темен случайный ночлеги ночь шелестит снегопадом,и только и свету что снег…1971Напоминание об ИвикеЯ лишь во сне свободен,как раб, освобожденот произвола родини слепоты времен!Иду себе свободнов родной Пелопоннес,как Ивик беззаботныйчерез весенний лес.Как хорошо дорогупрослушать посошком,шагая понемногус дудою и мешком!Как радостно с пригоркависячий слушать гами легкодумно-зоркоглядеть по сторонам!А там, в зеленой шири –дубравы да луга.Коровы опустилив траву свои рога.Снопы лучей белёсыхклубят лесную тьму.Воткну я в землю посохи дудочку возьму.Я горло ей продуюи выпущу из рукмелодию такую,как эти лес и луг.А лес всё гуще, гуще,всё уже колея.Вперед – в просвет цветущийиного бытия!Не блудному ли сынувеселый дар с небес?Кто хочет – в Палестину,а я – в Пелопоннес!И так я заиграю,как истмийский флейтист.И отзовется с краюопушки птичий свист.Но что там? В хвойном мраке –всё ближе, ближе – ах! –не птицы, а бродягис дубинками в руках.Они посторонятсяи станут за сосной. – Своим ли прибедняться?Идемте! Кто со мной?Они переглянутсяо чем-то о своеми только улыбнутся,дубинки взяв: – Идем!Один, другой и третий –все трое – напрямик. – Друзья, Зевес свидетель,нам дудка проводник.А грай в вороньих гнездах!А столько воронья! – Вы чувствуете воздухиного бытия?А солнечные пятна!А красные цветы!И голос: – Мы-то ладно,но чувствуешь ли ты?И словно шило, что ли,пронзило левый бок.И выпали от болии дудка, и мешок.И что еще? Потемки.Я охнул – и упал.И кто-то в перепонкивпотьмах застрекотал.И заскрипел, и дрелью,буравящей сучок,засвиристел под дверью –так тоненько – сверчок…Оставим объясненья.Кто ведает о том,какие сновиденьяперед последним сном?Я мало жил – и много.Там умер – здесь воскрес.Но где она, дорогав родной Пелопоннес?А жизнь всё безымянней,и многие в тени.И мы, будильщик ранний,и мы с тобой одни.Лишь рядом из поселкасосновый скрип глухойда поздняя поземкапо опали сухой…1973* * * («Еще помидорной рассаде…»)On the fairest time of June.
Keats[1]Еще помидорной рассадебольшие нужны костыли,и щели в искрящей оградевьюном еще не заросли;еще предзакатные краскилегки как однажды в году,и пух одуванчиков майскихне тонет в июньском пруду.Но так сумасшедше прекраснанедолгая эта пораи небо пустое так яснос вечерней зари до утра,что, кажется, мельком, случайночего ни коснется рука –и нет, и останется тайнана пальцах, как тальк с мотылька.О, лучше не трогай, не трогай.Что правды? Иди как идешьсвоей легкодумной дорогойи тайны чужой не тревожь.Довольно с тебя и окрайны,и неба, и вспышек гвоздик.Ты, может быть, сам не без тайны,но, к счастью, ее не постиг.1973* * * («Заплачет иволга и зацветет жасмин…»)Заплачет иволга и зацветет жасмин.И догадаешься: ты в мире не один.Так тишь колодезна. Так вёдро глубоко.Гроза промчалась – и прокисло молоко.И дуб струящийся, вобравший небосвод,как конь от мух, листвою нижнею прядет.Живи как можется, вдыхай до ломотыозон жасминовый и банный дух тщеты!Тебе ли не было отпущено с лихвой?Так слушай: иволга кричит над головой…1973Бывшим маршрутомЯ оторвался от своих корней,а родина моя всё зеленейчужой листвой шумит над головой!..Не странно ли, на улице Лесной уже ни леса нет, ни лесопилок – булыжник да асфальт. Летит трамвай, на крышу тень кирпичная упала, и пыль, крутясь, вдогонку понеслась, и ветер, ветер… И жалеть не надо! Я так устал от самого себя, что только бы глядеть, глядеть, да слушать на поворотах скрежет осевой, да отмечать проездом: Квас. Газеты. Цветы. Тишинский рынок. Зоопарк. Ваганьковское кладбище. Обратно. И ничего другого… Говорят, что парность – знак надежды. В этой жизни я главное, быть может, проглядел, а шум остался, неусыпный, долгий, тенистый шум, лесная благодать…
Как хочется под липой постоять,под чистой липой – и увидеть мать.Она меня уже не узнает:глядит в окно и всё чего-то ждет,всё слушает, уставив наугадсвой напряженно-безучастный взгляд.Еще жива, еще не умерла,но душу в бедном теле изжила –всю, за меня… И страшно сознавать,что мне любви ее не оправдать.И этот взгляд… За что? И почему?Мне хорошо на людях одному. Скрипи, трамвай, греми в кольце железном! Скрипи-греми! Счастлив, кому дано из колеи осточертевшей выпасть и время на ходу остановить! Развоплощенность – это путь свободы. Как хочется в ладони зачерпнуть минуту-две, в пустую горсть вглядеться, держать, держать, ни капли не пролить. И как повеет чем-то… Лето, лето, весна цветов, пионы и бензин, искрят газоны, тянет травостоем, и запах детства слышен за квартал.
…А ночью, чтоб отец не увидал,забраться на душистый сеновалв конюшне милицейской и впотьмах –змея! змея! – испытывая страх,лежать на сене – а покос лесной –и каждый шорох чувствовать спиной.И долго в небо черное глядеть.Раскинуть руки – и лететь, лететьнад красной водокачкой голубой,над каланчой и заводской трубой,над колокольней – и рукой задетьза колокол – и раскачнется медь.И вдруг очнуться: что это? И гуд,и лошади копытами гребут…И вспыхнет неба вольтовый квадрат –удар! – и оглушительный раскатвсё сотрясет, и шелест налетит,порыв, еще – и ливень загудит…О доблесть малых: страх, восторг и страх!И топот, топот, топот в денниках.А я мальчишка, мне двенадцать лет,как выкидыш я выброшен на свет,мне интересно жить еще, я мал,я сам себя еще не осознал,не знаю, что за грохоты гремят,какие кони в темноте храпят –из-под земли – всё громче, всё грозней…Я оторвался от своих корней, и эта память мне уже чужая, и я уже другой… Но что же, что издалека томит, не отпускает, а кружит, кружит? Что за дикий бег? Куда летит трамвай, и жизнь, и время? Что слышит мать из тишины своей, той тишины последней? Кто ответит? Я мир искал, а потерял себя, и на годах, как на конюшне старой, замок навешен… Как копыта бьют! Стучат! Стучат! Пусть выпрямят дорогу, пускай зальют асфальтом колею, а я свое дослушаю – Тишинский! – додумаю, а нет – так домолчу. А впрочем, хватит. Что там, Белорусский? Пора сходить. И снова этот шум:
Цветы. Газеты. Квас. Он льется, льется… – Эй, гражданин, не мешкайте в дверях!Проходит всё, и только остаетсянеслышный шелест, только шум в ушах…1973* * * («Радости нужен повод…»)Радости нужен повод:день ли рожденья, годсвадьбы – гуляй, коль молод.Горе само найдет.Даром не потревожит,лишних не скажет слов,руку молчком положит,глянет в глаза: готов?Вздрогнешь как от ушиба,жизнь пронесется вспять…Вот и учись как рыбавоздух пустой глотать.Начало 1970-хТри стихотворенияIОтца и мать двойным ударомсвалила смерть. Их сон глубок.Теперь они в подлеске старомлежат ногами на восток.Лежат, а сбоку стынет лужа,а сверху воронье кружит,и шелестит венок: от мужа,а муж в земле сырой лежит…II…И поглотила одна могилавас друг за другом – и холм сровняла.И то, что жизнью недавно было,теперь землею и снегом стало.И не поверить, как это просто:в дыму морозном, в ограде теснойрядком два-оба – среди погоста –сугроб надгробный да крест железный.И всё. И солнце в морозном дыме.И от рожденья до смерти – прочерк.А я вас вижу еще живыми,затянут намертво узелочек…Спите спокойно. Теперь одни вы.И голос давний, уйду ль, уеду: – Не забывай нас, пока мы живы,не будет снегу – не будет следу.И стук какой-то. Окину взглядоми догадаюсь: наверно, с ланки.Каток кладбищенский где-то рядом,колотят клюшки по мерзлой банке.А снегу, снегу – само сиянье!Гляжу – а вас и следы простыли.Лишь снег остался да в поминаньедва красных яблока на могиле…IIIНа бывшем пруду монастырском ребячий каток.Кресты и ограды, а рядом канадки и клюшки.Еще мы побегаем малость, подышим чуток,пока не послышится судный удар колотушки!Как жизнь эта мечется – зимня, желанна, жалка,но высшая мера часы роковые сверяет:стучит колотушка – и рядом удары с катка,играют мальчишки – и трубы играют, играют…1974ВелосипедыЧто есть и что останется – не знаю.Как тень мелькает за ее спинойстремительной, как вспыхивает солнцена втулке колеса! Она легкакак бабочка, и на лету трепещеткрахмальный фартук белый – догони!И колея в черемушник ныряет,и воздух, воздух хлещет и пьянит,а я припал к рулю, верчу педали,я догоню ее! Но нет, едва ли…Как ненасытна жизнь в пятнадцать лет!Записка в книге, зуд велосипедный –и целый день томишься, и во снекуда-то сломя голову несешься,она на раме, ты в седле – и прядьотбившаяся горячит и дразнит,а повернется – губы и глаза,глаза и губы – и колючий шелест,желанья полный, рама и седло –и пустота!.. О, разрешенье плоти, –так выбивает пробку к потолкуи раздраженно пузырится пена!А мы, душа, другие знали сны,но пролетели врозь велосипеды,лишь имена Simpson и Diamantеще тоской черемуховой веют,послевоенной, злой… Но чтоб теперь,теперь столкнуться на перроне: ты ли? –и отшатнуться: круглое лицо,прямая полногрудая фигура,затянутая узким ремешкомкак дачный саквояж, и зонт японский –чужое всё! – и только твердый взглядкак вызов да еще сухие губынадменные… Зачем, зачем всю жизнья догонял тебя? Теперь я знаю,что первая любовь обречена,но медлю почему-то… Так однаждыстоял я у киоска Porno-sex,о принце Датском смутно вспоминая,о вопле паровозном, о письме: – Я больше не люблю тебя, – а рядомвечерний Копенгаген жил, и негрглядел в киноглазок, и кто-то шеютянул, чтоб оттеснить его, взглянуть,увидеть нечто… Есть у нас секреты,а тайны нет… Как вздрагивает зонт…Нелепо говорить, молчать нелепо.И хорошо, что поезд подошел. – Звони! – и двери стукнулись резиной…Не может быть, чтоб я тебя любил.Не может быть. Я ничего не помню.Но отчего же так не по себе,как будто в чем виновен? Нет, довольно,довольно с нас и собственных забот!И мне они дороже тех кошмарныхсчастливых снов, какие только разсбываются, когда мы не готовыдля счастья… А она еще летиткак бабочка, еще летит, мелькая,непойманная, легкая такая…А иногда мне хочется шепнутькак на духу, всего два слова: времяубийца, а не лекарь…1974* * * («во сне я мимо школы проходил…»)во сне я мимо школы проходили выдержать не в силах разрыдался1976* * * («Река темнеет в белых берегах…»)Река темнеет в белых берегах.Пронесся ледоход неторопливои тишина зыбучая в лугахстоит недели за две до разлива.Я что-то потерял. Но что и где?………………………И колесо колеблется в воде.1973* * * («…и дверь впотьмах привычную толкнул…»)…и дверь впотьмах привычную толкнул –а там и свет чужой, и странный гул –куда я? где? – и с дикою догадкойзастолье оглядел невдалеке,попятился – и щелкнуло в замке.И вот стою. И ручка под лопаткой.А рядом шум, и гости за столом.И подошел отец, сказал: – Пойдем.Сюда, куда пришел, не опоздаешь.Здесь все свои. – И место указал. – Но ты же умер! – я ему сказал.А он: – Не говори, чего не знаешь.Он сел, и я окинул стол с вином,где круглый лук сочился в заливноми маслянился мозговой горошек,и мысль пронзила: это скорбный сход,когда я увидал блины и меди холодец из поросячьих ножек.Они сидели как одна семья,в одних летах отцы и сыновья,и я узнал их, внове узнавая,и вздрогнул, и стакан застыл в руке:я мать свою увидел в уголке,она мне улыбнулась как живая.В углу, с железной миской как всегда,она сидела, странно молода,и улыбалась про себя, но пятнав подглазьях проступали всё ясней,как будто жить грозило ей – а ейтак не хотелось уходить обратно.И я сказал: – Не ты со мной сейчас,не вы со мной, но помысел о вас.Но я приду – и ты, отец, вернешьсяпод этот свет, и ты вернешься, мать! – Не говори, чего не можешь знать, –услышал я, – узнаешь – содрогнешься.И встали все, подняв на посошок.И я хотел подняться, но не мог.Хотел, хотел – но двери распахнулиськак в лифте, распахнулись и сошлись,и то ли вниз куда-то, то ли ввысь,быстрей, быстрей – и слезы навернулись.И всех как смыло. Всех до одного.Глаза поднял – а рядом никого,ни матери с отцом, ни поминанья,лишь я один, да жизнь моя при мне,да острый холодок на самом дне –сознанье смерти или смерть сознанья.И прожитому я подвел черту,жизнь разделив на эту и на ту,и полужизни опыт подытожил:та жизнь была беспечна и легка,легка, беспечна, молода, горька,а этой жизни я еще не прожил.1975* * * («С чем проснешься? С судьбой и дорогой?..»)С чем проснешься? С судьбой и дорогой?Нет, пожалуй, с дорогой одной –с той проселочной, пыльной, широкой,полевой, затравевшей, лесной.Ничего-то и не было, кромеэтой дьявольской тяги колес,в небо взмывшей на аэродромеили вылетевшей под откос.А судьба – это мера иная:как поется, не свет в терему,не бездомная песня ночная,не слова про суму и тюрьму.Нет, судьба-несудьба пощадила,а дорога – дорога была,чтобы горше душа возлюбилавсё, что даром у жизни взяла.И когда ты в тщете колченогойляжешь, тихий, на стол раскладной,с чем останешься? Только с дорогой –самой долгой, последней, родной…1976Из книги «Слуховое окно» (1983)
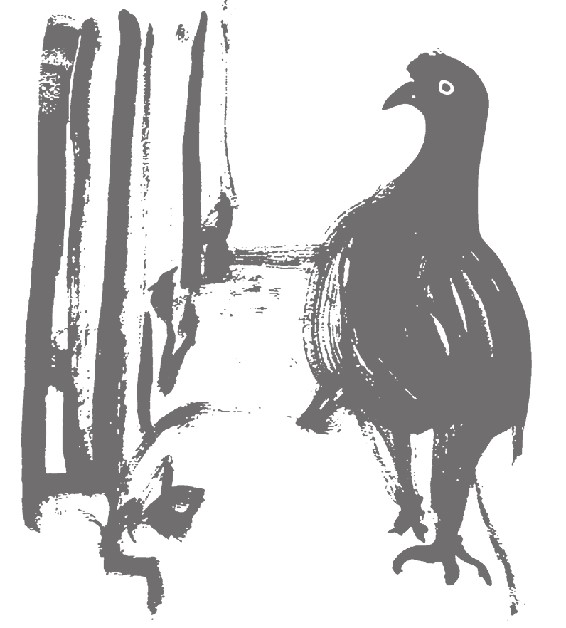
Когда запевает бор
Когда, распушив хвостища,звенят на заре лесаи каждая ветка свищетна разные голоса,как Мстера гудет с Мещеройщебечущий размахай, –что это, не пенье ль бора? –нет, это ликует май.Когда корабельным строемсосновый скрипит народ,и волны бегут по хвоями валят верхи вразмет,и валятся шишки оземь,и шум с поднебесных бездн, –что это, не пенье ль сосен? –нет, это еще не песнь.Когда ж частокол скрипучийпо щиколотку в снегуи тучи листвы колючейкак замерли на бегу,когда не поют ни птицы,ни ветер, но, как топор,мороз-колотун резвится,тогда запевает бор…Мы сосны, но мы как людистеною встаем живой,суками – руками – грудью –порукою круговой,и если нас точит стужапилою и топором,мы тянем струну всё туже,нас валят – а мы поем.Неслыханна эта доля,живительная беда –вытягивать поневолемелодию в холода,и слаженней нет артели:пошатываясь едва,вынянчивать в колыбелии музыку, и слова.А за полночь на мгновенье,как весть, по ветвям пройдетне шелест, не дуновенье,но трепет, как будто Тот,Кто в дебрях провеял белыхкаким-то предвечным сном,дыханьем Своим одел ихв безветрии ледяном.1979* * * («Я сойду на последней странице…»)
Я сойду на последней странице,где березы обступят кругом,где взлетит полуночная птицас ветки, капли сбивая крылом.Я войду в край боярской измены,в ту страну, где секира и мох…Вы до мозга костей современны,реставраторы темных эпох.Где он, дом? У чужого пределаоткачнется в седле голова.И лежит безымянное тело.И в зенит прорастает трава.Красна девица в черном платочке.Чем помочь? Не отпишешь пером.Это, как говорится, цветочки,то-то ягодки будут потом!И не слух долетит до столицы,а глухой человеческий вздох…Я сойду на последней странице,где безмолвие глуше, чем мох.Мох да молчь, но безмолвное словосургучу не залить, ни свинцу.Я живу. Это право живого –имя дать и творцу, и глупцу!1961* * * («Не растекаться мыслию…»)
Не растекаться мыслиюпо древу – вот уж нет! –а состязаться с мысиюнам завещал Поэт.Не веткою-безделкоюслова ловить в капкан,а прыгать вольной белкоюнам завещал Боян.Но долго ли безделицувзять сообща в расчет?И вот уже по деревцукривая мысль течет.По древу растекается,и шрифт на полосескрипит ветвями, мается,как белка в колесе.1970-еПрощанье со старыми тетрадями,
или Размышленья перед трескучей печью и бутылью домашнего вина в старом деревянном доме в Павловом Посаде, где автор родился
Боюсь не вздора, а рутины,что ни начну, то с серединыи кончу, верно, чепухой.Не знаю, время или возраст,но слышу я не лес, а хворост,не славий щелк, а хруст сухой.Пора проститься со стихамии со вторыми петухами –а третьи сами отпоют, –с ночными узкими гудками,с честолюбивыми звонкамипод утро, когда их не ждут.При свете дня яснее проза:сигнал ли зоркий с тепловоза –предупредительный гудок,иль родниковый бульк хрустальный,как позывной второй сигнальной –в бутылях забродивший сок.А впрочем, для чего детали,когда глаза не суть видали,а то, что виделось глазам,в чем опыт думал убедиться,и не кивай на очевидца,который верит: видел сам.А что он видел: луг да ели,когда торфа́ под ними тлелиили прозрел, как тот герой,кто меж печатными строкамичитал духовными глазами?И я так пялился порой.Пора покончить с юным бредом,с двойным – орлом и Ганимедом –полетом вечного пераи пересесть за стол с кровати(оно для домоседа кстати),за Rheinmetall засесть пора.Одна беда: садясь за прозу,не тяпнешь водочки с морозупод малосольный огурец. – Позвольте, где зима, где лето? –одернет критик, а с поэтаи взятки гладки, наконец.Не говорю уж о комфорте:когда ты в форме, хоть на чертеезжай – и тряска нипочем.И что за путь: ухаб ли, кочка –не важно! – приживется строчка,а с ней и улица – твой дом.А кстати, кое-что о форме:она не обувь на платформе,а безразмерные носки,и важно – слог для пародиста, –чтоб было в ней легко и чисто,и меньше пота и тоски…Так вот: ходил и я в поэтах,не очень, может быть, пригретых,но и не загнанных в Инту.И что же? Горячо-морожно!Попробуй – жить куда как можно,но петь уже – дерет во рту…Да и нелепо как-то: годыи кризис половой свободы,не говоря уж о другой.Не Фрейд ли здесь подставил ножку:смешно, ловя как малу вошку,за рифмой бегать час-другой.А нет бы попросту да быстростихом свободным строк по тристапилить – и, смотришь, капитал.Что делать, мы консервативны,как в век пилюль презервативы(так Вознесенский бы сказал).Ах, оборотистый народец –поэты! Бедный оборотеци тот пускаем в оборот:бросаешь камешек соседу,а он булыжник – мельче нету, –как говорится, в общий счет.Дудел и я на самоделке,но повезло: с чужой тарелкикусков не брал, и сладкий сонне бередит воспоминанья,как будто на предмет изданьязвонит редактор Фогельсон.Простимся с громкими мечтами,и пусть токуют в фимиамесоперники по ремеслу –пусть их! – а мы, как в поговоркеи от махорки будем зорки,покурим под шумок в углу.Не угождать. Себе дороже.Мы суше стали, но и строже,и пристальней наш поздний свет.Сойдемся жить и чай заварим,а постучит какой татарин: – Вы обознались. Ваших нет.А впереди такие сроки,такие дальние дороги,по осени такая тьма –что и не стоит… Бога ради!Опустишь голову в тетради,поднимешь – а уже зима.Зима, и жизнь опять вначале,и там, где яблоки стучали,трещит морозец молодой,струится дым, играет холод,глядишь – а ты уже немолод,и лед звенит в ведре с водой.А вдалеке гудок прощальный,всё тот же, долгий, инфернальный,и синий-иссиня снежок.Ведро поставишь ледяное,стоишь – и голос за спиною: – Ты что-то мешкаешь, дружок. – Да-да, иду… – За поворотомя оглянусь – но никого там,и в колком инее, как дед,гляжу в вечерние потемки,а там ни дыма, ни колонки.Ошибка вышла. Наших нет.Вот что увидится… Однако!Завыла на дворе собакавниз головою, говорят.Чур нас! – раздвинем половицыи вниз сойдем, где сидр хранитсяи зеленеет маринад.Не так ли, высветив бутыли,и Дант с Вергилием сходилина круги Ада с фонарем?Не так, отнюдь! По вере русскойдостанем выпивку с закускойи всех во здравье помянем.По духу близких и по кровипомянем всех на добром слове,кому из мерзлых ям не встать.А помнишь, как – мороз по коже! –кричал отец, берясь за вожжи: – Ну, открывай ворота, мать!А что там: родина ль, чужбина –кто знает! – дом ли, домовина?Ездок привстал – и конь несет.Вот так и я: свое итожу,продолжить захочу – продолжу,а надоест – два пальца в рот!Не первый год живем на свете,а всё нескладно: свищ в сюжете,и с флюсом, стало быть, финал.С прощанья начал, а весельемкончаю, как бы новосельемна этот свет – и кончен бал!Да уж и ночь. Вино допили.Теперь как в сказке – жили-были –в постель – и кубарем в провал.На том и мы – не знаю, кстати ль? –с тобой расстанемся, читатель,чтоб ты, как автор, не зевал.Нет, наше ложе без обмана,а что да как – была б сметана,и масло как-нибудь собьем.Была сметана, будет масло,а если что кому не ясно,я это объясню потом.1976