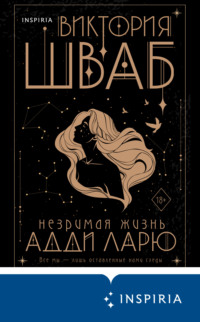
Незримая жизнь Адди Ларю
Однако она хорошо знала, каково скрывать правду.
– Пойму, если ты решишь уйти, – признался Джеймс.
Но Адди не вскочила и не схватила пальто.
Просто потянулась и украла с края его миски чернику.
– Не знаю, как ты, – легкомысленно сказала она, – а я отлично провожу день.
Джеймс прерывисто вздохнул, смаргивая слезы, и улыбнулся.
– Я тоже, – заявил он, и все пошло на лад.
Гораздо легче поделиться секретом, чем мучительно его хранить, поэтому, снова рука об руку выйдя на улицу, они чувствовали себя заговорщиками, у которых кружится голова от разделенной тайны.
Адди не переживала насчет того, что ее увидят, заметят: если бы кто-то и сделал снимки, те бы просто не получились.
(Кто-то все же их сфотографировал, но лицо Адди всегда было благополучно смазано или затемнено, и всю следующую неделю заголовки в таблоидах кричали о загадочной девушке, пока неизбежно не сменились другими, более любопытными для публики.)
Они вернулись сюда, в его квартиру в «Бакстере», чтобы выпить. Столы были сплошь завалены книгами и документами по Второй мировой войне. Джеймс признался, что готовится к роли, читая все рассказы очевидцев, которые смог отыскать.
Он показал их ей, эти печатные свидетельства, и Адди сказала, что когда-то интересовалась войной и знает несколько историй. Она поделилась с ним, выдав их за чужие переживания, а не за собственный опыт. Джеймс слушал, устроившись в углу кремового дивана и поставив на грудь бокал виски.
Они заснули рядом на огромной кровати, согреваясь теплом друг друга, а на следующее утро Адди проснулась до рассвета и улизнула, избавив обоих от неловкого прощания.
Ее преследовало смутное ощущение, что они бы подружились. Если бы, конечно, Джеймс ее вспомнил. Адди старается об этом не думать, но порой ей грезится ее гипотетическое будущее, перед ней разматываются нити дорог, на которые она никогда не ступит. Но так и рехнуться недолго, поэтому Адди привыкла туда даже не заглядывать.
И вот она вернулась, а его нет.
Адди кутается в один из пушистых махровых халатов Джеймса, распахивает стеклянные створчатые двери и выходит на балкон спальни. На улице ветер, подошвы босых ступней обжигает холод. Вокруг низким ночным небом, полным фальшивых звезд, раскинулся город. Адди сует руки в пустые карманы халата и на дне находит его.
Маленький деревянный ободок.
Вздохнув, Адди вытаскивает его наружу. Облокотившись о балконные перила, заставляет себя посмотреть на кольцо. Внимательно изучить, будто ни разу не видела. Адди поглаживает обод, противясь желанию надеть его на палец. Конечно, она думала об этом в самые тягостные минуты, в миг, когда силы были на исходе. Но Адди не сломить. Она наклоняет ладонь и позволяет кольцу упасть во тьму.
Вернувшись в квартиру, Адди наливает еще бокал вина и забирается на великолепную кровать, укладывается на египетские простыни, укрывшись пуховым одеялом. Она жалеет, что не вошла в «Эллоуэй». Что не дождалась в баре Тоби. Тоби, с его растрепанными кудрями и застенчивой улыбкой. Тоби, который пахнет медом, играет на телах, словно на музыкальных инструментах, и занимает так много места в постели.
XIII
30 июля 1714
Вийон-Сюр-Сарт, Франция
Чья-то рука встряхивает Аделин, и та просыпается. На миг она не понимает, где очутилась, словно еще находится под властью сонного морока и видения – должно быть, это лишь видение – о молитвах молчаливым богам, о заключенных под покровом тьмы сделках, о забвении.
Аделин всегда обладала живым воображением.
– Проснись… – говорит голос, который она знает всю жизнь.
Рука снова крепко хватает ее за плечо, и Аделин прогоняет остаток сна. Над ней деревянный потолок сарая, кожу колет солома, а рядом на коленях стоит Изабель, чьи светлые волосы заплетены короной, а брови тревожно хмурятся. С каждым ребенком ее лицо немного увядает, каждые роды крадут еще один кусочек жизни.
– Вставай, глупышка.
Прежде Изабель бы так и сказала – упрек в ее голосе сглаживала доброта. Но губы подруги обеспокоенно поджаты, на лбу залегла складка. Она всегда хмурилась именно так – всем своим видом, но когда Аделин тянется разгладить морщинку у нее между бровями (чтобы стереть переживания, как делала тысячи раз прежде), Изабель отшатывается от прикосновения незнакомки.
Выходит, это не сон.
– Матьё! – кричит Изабель через плечо. В дверном проеме сарая стоит ее старший сын, держа в руках бадью. – Пойди-ка принеси одеяло.
Парнишка исчезает в солнечном свете.
– Кто ты? – спрашивает Изабель.
Аделин пытается ответить, забыв, что неспособна назвать себя. Имя застревает у нее в горле.
– Что с тобой стряслось? – настойчиво вопрошает Изабель. – Ты заблудилась?
Аделин кивает.
– Откуда ты?
– Отсюда.
Изабель хмурится еще сильнее.
– Из Вийона? Не может быть! Мы бы обязательно встретились. Я тут всю жизнь живу.
– Я тоже, – бормочет Аделин.
Изабель, скорее всего, решает, что незнакомка бредит, поскольку качает головой, отбрасывая нелепую мысль.
– Ох уж этот мальчишка, куда запропастился? – ворчит Изабель и снова обращается к Аделин: – Ты можешь подняться?
Они выходят во двор. Аделин вся перепачкалась, но Изабель не отпускает ее, ведет под руку. У Аделин перехватывает дыхание от такой доброты, от тепла ее прикосновения.
Изабель обращается с ней как с дикаркой, разговаривает мягко, плавно двигается, ведя Аделин к дому.
– Тебе больно?
«Еще как», – думает Аделин.
Но, разумеется, Изабель спрашивает о ссадинах, порезах и ранах, а насчет них Аделин не слишком уверена. Она оглядывает себя. Ночью самое ужасное скрывала тьма. В утреннем же свете все оказалось как на ладони. Испорченное свадебное платье. Порванные туфельки. Запятнанная лесной грязью кожа. Прошлой ночью, пробираясь через заросли ежевики, Аделин поцарапалась о колючки, но сейчас на ее теле нет ни воспаленных рубцов, ни ран, ни следов крови.
– Нет, – тихо отвечает она, когда девушки ступают в дом.
Не видно ни Матьё, ни Анри, только третий ребенок – еще младенец, Сара, – посапывает в корзине у очага. Изабель усаживает Аделин на стул напротив малыша и ставит на огонь горшок с водой.
– Ты так добра, – шепчет Аделин.
– Я был странником, и вы приняли Меня[5].
Это из Библии.
Изабель подносит к стулу таз и тряпку, опускается на колени у ног Аделин, осторожно снимает грязные туфельки, ставит их к очагу, затем начинает счищать лесную грязь с рук гостьи и землю из-под ее ногтей.
Между делом Изабель засыпает Аделин вопросами, на которые та пытается ответить, однако имя ей все еще не дается. А когда она говорит о своей жизни в деревне, о тени в лесу, о сделке, что они заключили, слова, сорвавшись с губ Аделин, не долетают до ушей подруги.
Лицо той становится невыразительным, взгляд – неподвижным, и когда гостья наконец умолкает, Изабель быстро трясет головой, словно пытается пробудиться ото сна.
– Прости, – говорит она со смущенной улыбкой, – так что ты сказала?
Позже Аделин выяснит, что обрела способность лгать, и слова станут течь как вино: легко льются, легко проглатываются. Но правда всегда замирает на кончике языка. История Аделин останется нерассказанной для всех, кроме нее самой.
Изабель вручает гостье чашку. Младенец в корзине начинает ворочаться.
– До ближайшей деревни не меньше часа на лошади, – говорит Изабель, беря спеленутую малышку на руки. – Ты прошла весь этот путь пешком? Должно быть…
Она, конечно же, обращается к Аделин, но голос ее звучит мягко, нежно, а взгляд устремлен к Саре. Изабель вдыхает аромат младенческого пушка на макушке ребенка.
Похоже, подруга просто создана для материнства – слишком наслаждается им, ни на что больше не обращая внимания.
– Так что же нам с тобой делать, – воркует Изабель.
Снаружи на тропинке у дома раздаются шаги, словно кто-то идет по ней в тяжелых ботинках. Изабель слегка втягивает шею, похлопывая малышку по спинке.
– Это мой муж, Жорж.
Аделин хорошо знает Жоржа. Однажды, когда им было по шесть лет и поцелуи считались разменной монетой, как фигурки в игре, она его поцеловала. Но теперь ее сердце трепещет от ужаса. Аделин вскакивает, с грохотом роняя на стол чашку.
Боится она не Жоржа, а порога дома и того, что случится, когда Изабель за него выйдет. Аделин хватает ее за руку, быстро и крепко, и страх впервые искажает черты подруги. Но вскоре ее лицо разглаживается.
– Не волнуйся, – успокаивает она. – Я с ним поговорю. Все будет хорошо. Подожди, пожалуйста.
И не успевает Аделин сказать и слова, ей вручают младенца, а Изабель выходит из комнаты.
Страх сжимает грудь, но Изабель уже нет. Через распахнутую дверь слышны голоса во дворе, а слова уносит ветер. Малышка хныкает, и Аделин принимается слегка раскачиваться, успокаивая ребенка и саму себя. Дитя умолкает. Аделин как раз укладывает ее в корзину, когда раздается резкий вздох.
– Отойди от нее. – Это вернулась Изабель. От ужаса голос ее натянут точно струна. – Кто тебя впустил?
Христианская доброта мгновенно растаяла под напором материнского страха.
– Ты впустила, – отвечает Аделин, борясь с желанием рассмеяться.
Ей не смешно – это дает о себе знать безумие.
Изабель в ужасе таращится на нее.
– Врешь! – кричит она, бросаясь вперед, и только рука мужа ее останавливает.
Он тоже смотрит на Аделин, словно на дикое животное, волчицу, что пробралась в дом.
– Я не хотела причинить никакого вреда, – клянется Аделин.
– Тогда убирайся, – приказывает Жорж.
Другого выхода нет. Аделин кладет ребенка и покидает комнату, оставляя чашку с бульоном, таз на столе и бывшую подругу.
Поспешно выходя во двор, она замечает, как Изабель прижимает дочь к груди, а затем в проеме двери встает Жорж с топором в руке, словно незнакомка – дерево, что вот-вот рухнет, и тень его падает на их дом.
Потом уходит и он. Дверь запирают на засов. Аделин стоит на тропинке, не зная, что делать и куда податься. В ее сознании отпечатались колеи – гладкие и глубокие. Ноги множество раз носили ее в этот дом и обратно. Тело знает дорогу. Пройдешь по ней, повернешь налево и увидишь собственный дом, что отныне стал чужим Аделин, хотя ноги сами ведут ее туда.
Ноги… Аделин трясет головой. Туфельки остались сохнуть у очага Изабель. Но у стены дома стоят ботинки Жоржа. Аделин забирает их и отправляется в путь. Не в дом, где выросла, а назад к реке, где когда-то начинала молиться.
Воздух уже прогрелся и источает жару. На берегу реки Аделин сбрасывает ботинки и входит в неглубокую воду. Та плещется у ее икр, целует ямки под коленями. От холода перехватывает дух. Аделин смотрит вниз, ища свое отражение. В глубине души ей кажется, что она ничего не увидит, лишь отсвет неба над головой, но в глади реки отражается ее лицо, искаженное бегущей водой.
Расплетенные косы, широко распахнутые глаза. Семь веснушек, смахивающих на брызги краски. Лицо, перекошенное страхом и гневом.
– Почему ты не ответил? – яростно шипит Аделин солнечному лучу, блеснувшему на речной поверхности.
Но вода лишь рассыпается мягким переливчатым смехом, журча по камням.
Аделин сражается со шнуровкой свадебного платья, сдирает грязную тряпку и опускает в воду. Течение вцепляется в ткань, пальцы хотят ее отпустить. Позволить реке отнять последний клочок ее жизни, но у Аделин и так почти ничего не осталось.
Она и сама окунается в воду, выпутывая из волос остатки цветов, смывая с кожи лесную грязь. На берег она выходит замерзшей, взбудораженной и обновленной. Солнце стоит высоко, день выдался жаркий, Аделин раскладывает платье на берегу на просушку и в одной сорочке садится рядом. Платье – словно призрак ее самой. Аделин смотрит на себя и понимает – больше у нее ничего нет.
Платье. Сорочка. Пара украденных башмаков.
В смутной тревоге Аделин начинает рисовать палкой бессмысленные узоры на иле, облепившем берег. Но каждая нацарапанная ею линия растворяется. Все происходит слишком быстро, река не успела бы ее смыть. Аделин проводит черту и еще не доходит до конца, как та начинает расплываться. Пытается написать свое имя, но рука замирает, придавленная тем же камнем, что не дает поворачиваться языку. Аделин чертит линию глубже, с силой надавливая на песок, но это неважно: вскоре и она исчезнет. Гневно всхлипнув, Аделин швыряет палку в сторону. На глаза наворачиваются слезы.
Вдруг слышится топот маленьких ножек. Адди моргает: перед ней стоит круглолицый малыш. Четырехлетний сынишка Изабель. Адди брала его за руки и кружила, пока они, хохоча, не валились с ног.
– Здравствуйте, – говорит мальчик.
– Здравствуй, – отвечает она чуть дрожащим голосом.
– Анри! – кричит мать малыша, выходя на берег с корзиной грязного белья.
Заметив сидящую в траве Аделин, Изабель протягивает руку – не подруге, а сыну.
– Иди сюда, – велит она, голубыми глазами пристально рассматривая незнакомку и обращаясь к ней: – Кто ты?
Аделин кажется, что она стоит на краю крутого склона и земля уходит у нее из-под ног. Теряет равновесие и снова падает в жуткую пропасть.
– Ты заблудилась?
Déjà vu. Déjà su. Déjà vécu.
Она это уже видела. Уже знала. Уже прожила.
Они это уже проходили, поэтому теперь Аделин знает, куда ступать и что сказать. Знает, какие слова отзовутся добром. Если спросить правильно – Изабель отведет ее к себе в дом, набросит на плечи одеяло, предложит чашку бульона. Какое-то время это будет действовать, пока не закончится.
– Нет, – качает головой Аделин, – просто иду мимо.
А вот этого говорить нельзя, и лицо Изабель мрачнеет.
– Женщине не следует путешествовать в одиночку. Особенно в таком виде.
– Знаю, – кивает Аделин. – Меня ограбили.
– Кто? – бледнеет Изабель.
– Незнакомец в лесу, – отвечает Аделин. В сущности, она не врет.
– Тебе больно?
«Да, – думает Аделин. – Ужасно больно». Но заставляет себя сказать:
– Переживу.
Выбора-то все равно нет.
Подруга опускает таз со стиркой на траву.
– Подожди здесь, – просит она, снова становясь доброй и щедрой Изабель. – Я скоро вернусь.
Она берет кроху-сына на руки и поворачивает к дому. Стоит ей скрыться из вида, Аделин хватает платье, у которого все еще не просох подол, и натягивает его.
Разумеется, Изабель опять все забудет. На полпути к дому она опомнится, замедлит шаг и станет гадать, почему пошла обратно без стирки. Решит, что на нее нашло помрачение – где же набраться сил с тремя детьми, один из которых к тому же все время орущий младенец, и вернется к реке. На сей раз на берегу не будет незнакомки, платья, сохнущего под солнцем, только палка, брошенная в траве, да гладь ила.
* * *Аделин сотни раз рисовала дом, где живет ее семья. Изображала угол наклона крыши, рельеф поверхности двери, тень, которую роняет мастерская отца, и ветви старого тиса, что застыл, словно часовой, на краю двора. За ним она сейчас и прячется, глядя, как у сарая щиплет траву Максим, развешивает на просушку белье мать, обстругивает деревяшку отец.
Оставаться нельзя. Вероятно, можно было бы… попробовать отыскать способ перескакивать из дома в дом, как камушек, запущенный по воде. Но Аделин не хочет. Ведь, думая об этом, она чувствует себя не рекой или камнем, а рукой, что устала метать.
Она вспоминает Эстель, закрывающую дверь… Изабель – добрую, а через мгновенье до смерти напуганную…
Позже, много позже Аделин научится играть в эту игру и поймет, сколько раз можно переступать с ветки на ветку, прежде чем упадешь. Но пока боль слишком свежа, слишком остра, происходящее сложно осознать, как и невыносимо видеть усталый взгляд отца и упрек в глазах Эстель.
Аделин Ларю не в силах оставаться чужой для тех, кого знала всю жизнь. Слишком больно смотреть, как они ее забывают.
Мать торопливо уходит в дом, и Аделин покидает свое убежище за деревом и направляется во двор. Не ко входу в дом, а к мастерской отца.
В единственном окне со ставнями не горит лампа, весь свет – лишь тонкая полоска солнца, что пробивается через открытую дверь, но и этого достаточно.
Аделин наизусть знает, как здесь все устроено. Сладковатый воздух пахнет землей и смолой. Пол покрыт стружками и пылью, все поверхности уставлены статуэтками отца.
Деревянная лошадка, вырезанная с натуры – с Максим, конечно, только не больше кошки. Набор мисок – их украшением служат лишь кольца дерева, из которого они сделаны. Стайка птичек, каждая размером с ладонь. Одни только взмахнули крыльями, другие их сложили, третьи расправили в полете.
Аделин умеет рисовать мир углем и карандашом, а вот отец всегда творил с помощью ножа. Вырезал из ничего фигурки, придавая им форму, вдыхая жизнь.
Зачем она пришла сюда? Аделин не знает. Возможно, попрощаться с отцом, самым любимым человеком на всем свете. Она хочет его запомнить. Помнить не грусть забвения в глазах, не хмурое лицо, с каким он вел ее в церковь, а вещи, которые отец любил.
Как учил ее держать угольный стержень, с помощью нажима руки менять форму и придавать рисунку глубину и объем. Его песни и сказки. Те пять летних дней путешествия на рынок, когда Аделин стала достаточно взрослой для поездок, но еще маленькой, чтобы не вызвать скандал. Его заботливый дар – деревянное кольцо, которое отец сделал для единственной дочери в день ее рождения. То самое, что она подарила мраку.
Даже сейчас рука Аделин тянется к шее – коснуться кожаного шнура, и что-то внутри сжимается, когда она понимает: кольцо исчезло навсегда.
По столу разбросаны обрывки пергамента, испещренные рисунками и чертежами, отметками готовых и будущих изделий. У края притулился карандаш. Аделин тянется к нему, хоть где-то в глубине души и раздается боязливое эхо.
Она подносит стержень к бумаге и начинает:
«Дорогой папа…»
Но карандашные линии быстро тускнеют. Стоило Аделин дописать эти два слова, как те исчезают. Она в сердцах бьет рукой по столу, опрокидывает небольшой горшочек с олифой, и драгоценное масло проливается на записи отца и деревянную столешницу. Аделин в ужасе пытается собрать бумаги, пачкает руки и задевает одну из крошечных птичек.
Только паниковать ни к чему.
Масло уже просачивается внутрь бумаги и тонет, словно камень, брошенный в реку, пока не растворяется окончательно. Так странно пытаться это осознать, понять, что исчезло, а что нет…
Олифа растаяла, но и обратно в горшке не появилась, тот все еще пустой лежит на боку, содержимое пропало. Пятен на пергаменте тоже нет, он нетронут, как и стол под ним. Лишь руки Аделин испачканы, масло покрывает завитки на подушечках пальцев, линии ладоней.
Все еще недоуменно таращась на свои руки, она шагает назад, и раздается ужасающий треск дерева, раздавленного каблуком.
Это маленькая деревянная птичка, чье крылышко сломалось об земляной пол.
Аделин расстроенно кривится – из всей стайки эта была ее любимицей. Она застыла с расправленными крыльями в момент первого взмаха. Аделин приседает подобрать птичку с пола, но когда выпрямляется, осколки уже исчезают, а игрушка на ее ладони снова цела. От удивления Аделин едва не отшвыривает ее, не понимая, почему это кажется таким невозможным. Ее превратили в незнакомку. Она сама видела, как исчезла из памяти всех, кого знала и любила, скрылась, точно солнце за облаком, как растворялась каждая отметка, которую Аделин пыталась оставить.
Но с птицей все иначе.
Наверное, потому, что ее можно держать в руках. Или потому, что на какой-то миг это кажется благословением – исправлять повреждения, устранять ошибки, – а не просто еще одним свидетельством стирания ее личности. Неспособность оставить след.
Но пока Аделин не думает об этом. Позже она месяцами будет разгадывать тайну проклятия, запоминая его грани, изучая неприступную форму в поисках трещин.
А сейчас просто сжимает в ладонях целую птичку и радуется, что та невредима. Аделин хочет вернуть фигурку в стаю, но что-то ее останавливает. Возможно, нелепость момента. Наверное, она уже скучает по этой жизни, хоть и не собиралась по ней скучать, но все же прячет фигурку в карман, потом заставляет себя выйти за порог и спешит прочь от отчего дома. Шагает вдоль дороги мимо кривого тиса, за поворот и дальше, к окраине деревушки. И лишь оказавшись там, бросает взгляд назад. Позволяет себе последний раз посмотреть на озаренные солнцем деревья у опушки, их густую тень, что простирается вперед, а потом поворачивается спиной к лесу, к деревушке под названием Вийон и к жизни, которая больше ей не принадлежит, и пускается в путь.
XIV
30 июля 1714
Вийон-сюр-Сарт, Франция
Вийон исчезает, словно телега за поворотом. Деревья и холмы поглощают его крыши. Когда Аделин набирается смелости еще раз оглянуться, деревеньки уже нет.
Со вздохом она продолжает путь. Аделин морщится – ботинки Жоржа ей не подходят. Они велики чуть ли не вдвое. На бельевой веревке Аделин нашла чулки и запихала в носки ботинок, чтобы подогнать размер. Однако через четыре часа ходьбы она уже чувствует, что ноги стерты и кожаные стельки стали липкими от крови. Проверять страшно, поэтому она просто продолжает путь.
Аделин решила отправиться в обнесенный стеной Ле Ман. Это самое дальнее расстояние, на которое ей доводилось путешествовать, однако никогда прежде она не совершала такой путь в одиночку.
Аделин знает, что мир куда больше, чем города, раскинувшиеся вдоль Сарта, но сейчас неспособна думать ни о чем, кроме дороги, убегающей вдаль. Каждый сделанный ею шаг – шаг от Вийона, от жизни, которая ей уже не принадлежит.
«Ты хотела свободы», – шепчет голос у Аделин в голове.
Однако то не ее голос. Этот более глубокий и плавный, подбитый с изнанки атласом и древесным дымом.
Она обходит стороной деревни, фермы по краю полей. Иногда Аделин кажется, что она осталась одна в целом мире. Словно художник набросал пейзаж, а затем на что-то отвлекся.
Заслышав шум телеги, Аделин прячется в тени ближайшей рощи, пока опасность не минует. Далеко от дороги или реки она уходить боится, но однажды сквозь ветки деревьев замечает румяные плоды, и живот у нее начинает ныть от голода.
Фруктовый сад.
Благословенная тень и прохлада… Сорвав с низкой ветки персик, Аделин жадно впивается зубами в сладкий фрукт. Нутро сводит судорогой. Превозмогая боль, Аделин съедает в придачу грушу и пригоршню слив, черпает ладонью воду из колодца на краю сада и лишь потом с неохотой покидает временное убежище и возвращается в летнюю жару.
Подступают сумерки, удлиняются тени. Аделин наконец опускается на берег реки и снимает ботинки, желая осмотреть раны на ногах.
Однако их нет.
На чулках не видно крови. Пятки не стерты. Пройденные мили, усталость от долгой ходьбы по грунтовой дороге не оставили следов, хотя каждый шаг отзывался болью. Плечи не обгорели на солнце, несмотря на то, что Аделин чувствовала его жар. Живот просит чего-то более сытного, чем ворованные фрукты, но свет уже идет на убыль, на холмы ложится тьма, фонари не горят, и домов не видно.
Аделин настолько устала, что ей хочется свернуться клубочком прямо здесь, на берегу реки, и уснуть, но мошки, которые кружат над водой, так и впиваются ей в кожу. Поэтому она уходит в поле и ныряет в высокую траву, как поступала множество раз в детстве, когда хотела оказаться подальше от дома. Трава скрывала дом, мастерскую, крыши Вийона, и оставалось лишь чистое небо над головой, а уж оно-то могло быть где угодно.
Глядя в мраморные сумерки, Аделин тоскует по дому. Не по Роже или будущему, которого для себя не желала, а по твердой хватке Эстель на своей руке, когда старуха учила ее подвязывать малину, по спокойному рокоту отцовского голоса, пока тот работал в мастерской, по запаху смолы и древесной пыли. Кусочки жизни, с которыми Аделин не хотела расставаться. Она запускает руку в карман, ища деревянную птичку. Раньше Аделин запрещала себе трогать игрушку, почти уверившись, что ее там больше нет. Что кража, как и все поступки Аделин, была отменена. Но деревянная фигурка, гладкая и теплая, все еще на месте. Аделин достает ее из кармана, поднимает к небу и удивленно рассматривает.
Сломать статуэтку у нее не вышло. Зато вышло украсть.
Среди огромного списка запретов – невозможность написать или произнести собственное имя, оставить след, – это первое, что у нее получилось. Воровство. Пройдет много времени, и Аделин выяснит, как далеко простираются пределы ее проклятия, а еще позже научится понимать чувство юмора мрака. За бокалом вина он посмотрит на нее и заметит между делом, что успешная кража – безликий акт. Не оставляющий следов.
Но пока она просто радуется, что обзавелась талисманом.
«Меня зовут Аделин Ларю, – твердит она себе, сжимая деревянную птичку. – Я родилась в Вийоне, в тысяча шестьсот девяносто первом году, в семье Жана и Марты, в каменном доме позади старого тиса».

