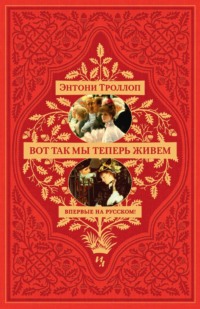
Вот так мы теперь живем
В то время, с которого начинается наш рассказ, то есть когда леди Карбери села писать редакторам, она отчаянно нуждалась в деньгах. Сэру Феликсу было в ту пору двадцать пять лет. Он четыре года прослужил в модном полку, но уже продал патент и, чтобы сразу сказать правду, прокутил всю полученную в наследство собственность. Все это мать знала, и знала также, что на свой небольшой доход сумеет прокормить и себя, и дочь, и баронета. Однако она не знала, сколько у баронета долгов – да он и сам не знал. Баронет, продавший офицерский патент в гвардейском полку и получивший наследство, может взять в долг очень много, и сэр Феликс сполна использовал эту привилегию. Жил он дурно во всех смыслах – сидел на шее у матери и сестры, так что им приходилось во всем себе отказывать, но пока ни та ни другая его не упрекала. Поведение отца и матери приучило Генриетту, что мужчине и сыну простителен любой порок, в то время как женщина, а особенно дочь, призвана быть образцом добродетели. Урок этот она усвоила настолько рано, что не считала такой порядок несправедливым. Она горевала из-за беспутства сэра Феликса, потому что он губит себя, но совершенно извиняла его в том, что затрагивало ее. Она находила естественным служить брату и не роптала, что он, прожив свое состояние, проживает состояние матери, вынуждая их урезать и без того скромные расходы. Генриетту приучили думать, что мужчины в том слое общества, к которому она принадлежала от рождения, всегда всё проживают.
Чувства матери были не столь благородны – или, правильно сказать, не столь безупречны. Мальчик, красивый как бог, был светом ее очей, единственной отрадой ее сердца. Она почти не смела ему пенять, когда он проматывал наследство, не пыталась отвратить сына с гибельного пути. В детстве она баловала его во всем и продолжала баловать теперь, когда он стал взрослым. Она почти гордилась его пороками и восхищалась поступками, которые, сами по себе не безнравственные, были губительны своей расточительностью. Она настолько потакала сыну, что даже в ее присутствии он не стыдился своего эгоизма и словно не замечал, как другие из-за него страдают.
Так и получилось, что занятия литературой, начатые отчасти для развлечения, отчасти – чтобы пробиться в общество, стали тяжелой работой ради денег. Говоря друзьям-редакторам о своих трудах, леди Карбери не кривила душой. И ей казалось, что, в неких скромных пределах, у нее есть все основания для больших надежд. То и дело она слышала, что тот или иной писатель добился успеха или (что было еще ближе ее сердцу) что та или иная писательница много зарабатывает своими книгами. Почему бы ей не добавить еще тысячу фунтов к годовому доходу, чтобы Феликс мог снова жить как джентльмен и жениться на богатой наследнице, которая – леди Карбери была уверена – все исправит? Кто красивее ее сына? Кто более приятен в обращении? У кого больше дерзости – первого условия, чтобы заполучить богатую невесту? И к тому же брак с ним принесет его избраннице титул леди Карбери. Если заработать денег и пережить нынешние черные дни, все еще может обойтись благополучно.
Главным препятствием на пути к цели было, вероятно, убеждение леди Карбери, что нужно не писать хорошо, а добывать хвалебные отзывы. Она и впрямь много трудилась над своими книгами – во всяком случае, быстро марала листы – и была от природы женщина умная. Она могла писать бойко и гладко, к тому же быстро усвоила навык растягивать все, что знала, на много страниц. Ее тщеславие не требовало написать хорошую книгу, но она очень старалась угодить критикам. Если бы мистер Брон сказал ей с глазу на глаз, что книга скверная, но притом расхвалил ее в «Утреннем завтраке», вряд ли личное мнение критика задело бы самолюбие леди Карбери. Она была насквозь фальшива, и все же, несмотря на фальшь, в ней было много хорошего.
Кто скажет, одно ли дурное воспитание испортило сэра Феликса, ее сына, или зло было в нем от рождения? Почти наверняка он стал бы лучше, если бы его в младенчестве забрали из дома и вырастили в нравственных правилах нравственные люди. С другой стороны, едва ли какое-либо воспитание или его отсутствие способно породить такую глухоту к чувствам других людей. Он даже собственных несчастий не мог ощутить, если они не затрагивали его сиюминутные удобства. Ему как будто не хватало воображения осознать будущие невзгоды, пусть до них оставался всего месяц, всего неделя – да хоть одна ночь. Он любил, когда его хвалят и ласкают, холят и вкусно кормят, и тех, кто так поступает, считал своими лучшими друзьями. У него были инстинкты лошади, недотягивающие даже до более высоких собачьих чувств. Сам он никогда и никого не любил настолько, чтобы отказаться от мгновенного удовольствия ради того, кого любит. Сердце у него было каменное. Притом он отличался красивой наружностью и быстрым умом. У него была смуглая кожа того оттенка, в котором чудится нечто аристократическое, и продолговатые карие глаза под идеальной аркой идеальных бровей. Волосы, почти совсем черные, он всегда стриг коротко; они были мягкие и шелковистые, но без того сального блеска, какой почти всегда бывает у смазливых брюнетов. Более же всего красоту его лица определяла точеная правильность носа и губ. Он носил усы, такие же прекрасно очерченные, как и брови, но не носил бороды. Подбородку его, при всей безупречности формы, недоставало того намека на сердечную мягкость, какой придает ямочка. Росту в нем было примерно пять футов девять дюймов, и фигура ничуть не уступала лицу. Мужчины признавали, а женщины в один голос твердили, что не рождался еще молодой человек красивее Феликса Карбери. И еще все соглашались, что он как будто не замечает собственной красоты. Он многим кичился – деньгами, жалкий глупец, пока их не спустил, титулом, местом в гвардии, пока не ушел оттуда, а особенно – превосходством своего модного интеллекта. Но притом ему хватало ума одеваться просто и не производить впечатления человека, озабоченного своей внешностью. До сих пор в тесном кружке его знакомцев почти не догадывались, насколько черств сэр Феликс в своих привязанностях, вернее, насколько лишен всяких привязанностей. Внешность, манеры и сообразительность позволяли ему казаться порядочным человеком. В одном он замарал свое имя, и минутная слабость уронила его в глазах друзей сильнее, чем все безумства прошедших лет. Он оскорбил другого офицера, а когда пришло время проявить мужество, сперва грозился, а потом струсил. Это было год назад, и вся история частично забылась, хотя некоторые еще помнили, что Феликса Карбери припугнули и он поджал хвост.
Теперь его целью было жениться на деньгах. Он прекрасно это понимал и вполне смирился с такой участью. Однако ему недоставало умения ухаживать. Он был красив, дерзок, с прекрасными манерами и хорошо подвешенным языком, мог без зазрения совести признаться в чувстве, которого не испытывал, но так мало знал о чувствах, что даже молоденькую девушку не умел убедить в своей искренности. Говоря о любви, он не только считал, что несет вздор, но и показывал это своим видом. Так сэр Феликс уже упустил молодую особу, у которой, по слухам, было сорок тысяч фунтов и которая наивно объяснила свой отказ тем, что «он на самом деле ее не любит». «Как я могу выразить свою любовь сильнее, чем желанием на вас жениться?» – спросил он. «Не знаю, но все равно вы меня не любите», – был ее ответ. Та девица избежала западни, теперь сэр Феликс намеревался охотиться за другой, которую мы вскорости представим читателю. Состояние ее не было исчислено с такой точностью, как сорок тысяч фунтов предшественницы, но все знали, что оно значительно больше. Говорили, что оно безгранично, несметно, неисчерпаемо. Утверждали, что отец этой девицы не считает траты на дом, слуг, лошадей, драгоценности и тому подобное. Он ворочал такими делами, что ему было все равно, заплатить за какой-нибудь пустяк десять или двадцать тысяч фунтов, как человеку, не стесненному в средствах, все равно, отдать за баранью отбивную шесть или девять пенсов. Такой воротила может со временем разориться, однако не было сомнений, что сейчас, когда он так вопиюще богат, за его дочерью можно взять огромные деньги. Леди Карбери, знавшая, на чем ее сын потерпел крушение прошлый раз, очень пеклась, чтобы сэр Феликс поскорее употребил в дело знакомство с домашними этого новейшего Креза.
А теперь надо сказать несколько слов о Генриетте Карбери. Разумеется, она ничего не значила в сравнении с братом, который был баронет, глава этой ветви Карбери и матушкин любимец, так что довольно будет описать ее вкратце. Она, как и брат, была миловидная, но менее смуглая и не с такими идеальными чертами. Однако в ее облике сквозила приятность, словно говорящая, что забота о себе целиком подчинена в ней заботе о других, – та самая приятность, которой недоставало брату. И лицо отражало ее душу вполне верно. И опять-таки, кто скажет, как брат и сестра получились настолько разными? Вышло бы все иначе, если бы обоих забрали в детстве у отца с матерью, или добродетели девушки целиком проистекали из того, что родители любили ее меньше? По крайней мере, ее не испортили деньги, титул и соблазны чересчур раннего знакомства со светом. Сейчас ей был всего двадцать один год, и она почти не видела лондонского общества. Мать редко посещала балы, к тому же экономия последних двух лет исключала новые платья и перчатки. Сэр Феликс, разумеется, выезжал, но Гетта Карбери большую часть времени проводила с матерью в доме на Уэльбек-стрит. Иногда свет ее видел и тогда объявлял, что она очаровательна, и в этом свет был совершенно прав.
Однако для Генриетты Карбери уже началась романтическая пора. Существовала и другая ветка Карбери, старшая, в которой к тому времени оставался один-единственный представитель – Роджер Карбери из Карбери-Холла. О Роджере Карбери читатель со временем узнает больше, но сейчас довольно будет сказать, что он был страстно влюблен в свою кузину Генриетту. Впрочем, ему было под сорок, а Генриетта уже познакомилась с неким Полом Монтегю.
Глава III. «Медвежий садок»
Дом леди Карбери на Уэльбек-стрит был довольно скромный и не мог называться особняком, но она въехала сюда, еще будучи при деньгах, так что обставила его очень мило и по-прежнему гордилась, что, несмотря на трудные времена, принимает по вторникам литературных друзей в такой приличной обстановке. Теперь она жила тут с дочерью и сыном. Задняя гостиная, служившая ей кабинетом, отделялась от парадной половины дома дверью, которая всегда стояла закрытой. Здесь леди Карбери писала свои книги, здесь сочиняла льстивые письма редакторам и критикам. Дочь редко беспокоила ее в кабинете, и никого из гостей, кроме редакторов и критиков, сюда не пускали. Однако сыну домашние правила были не указ, и он входил к матери без всякого стеснения. Она только-только набросала две записки, за которые взялась после письма мистеру Фердинанду Альфу, когда вошел ее сын с сигарой в зубах и развалился на диване.
– Мой дорогой, – сказала она, – пожалуйста, не кури у меня в комнате.
– Что за причуда, матушка, – ответил Феликс, бросая, впрочем, недокуренную сигару в камин. – Некоторые женщины уверяют, что любят табачный дым, другие – будто ненавидят его, как черта. А на самом деле все зависит от того, хотят они подольститься или осадить.
– Ты же не думаешь, что я хочу тебя осадить?
– Право слово, не знаю. Не одолжишь ли мне двадцать фунтов?
– Мой дорогой Феликс!
– Конечно, матушка. Но как насчет двадцати фунтов?
– Зачем они тебе, Феликс?
– Ну… по правде сказать, чтобы продолжать игру, пока что-нибудь не устроится. Невозможно жить совсем без денег. Я и так трачу меньше многих. Стараюсь по возможности ни за что не платить, даже стригусь в долг, и, пока получалось, держал экипаж, чтобы не тратиться на кэбы.
– Когда это кончится, Феликс?
– Я никогда не знаю, что чем кончится, матушка. Не могу беречь лошадь, чтобы не устала, когда собаки бегут хорошо. Не могу пропустить любимое блюдо ради тех, что будут за ним. Да и зачем?
Молодой человек не сказал«carpe diem»[2], но именно эту философию он исповедовал.
– Ты заезжал сегодня к Мельмоттам?
Было пять часов зимнего вечера – время, когда дамы пьют чай, а праздные мужчины играют по клубам в вист и когда праздным молодым людям иногда дозволяется полюбезничать. Леди Карбери считала, что в этот час ее сын должен ухаживать за богатой наследницей Мари Мельмотт.
– Я только что оттуда.
– И что ты о ней думаешь?
– Сказать по правде, матушка, я очень мало о ней думаю. Она не красавица и не дурнушка, не умна и не глупа, не святая и не грешница.
– Тем скорее она будет хорошей женой.
– Быть может. По крайней мере, я вполне готов поверить, что как жена она будет достаточно для меня хороша.
– А что говорит ее мать?
– Мать – чудна́я особа. Я невольно гадаю, сумею ли выяснить, откуда она, даже если женюсь на дочери. Долли Лонгстафф говорит, кто-то ему сказал, что она богемская еврейка, но я думаю, она слишком для этого толстая.
– Какое это имеет значение, Феликс?
– Решительно никакого.
– Она с тобой любезна?
– Да, вполне любезна.
– А отец?
– Ну, он не выставляет меня из дома. Разумеется, за ней увивается с полдюжины молодых людей, и думаю, у старика от них в глазах рябит. Он больше думает, как заманить герцогов на обед, чем о дочкиных женихах. Любой сможет ее заполучить, кто ей приглянется.
– Тогда почему бы не ты?
– Почему бы не я, матушка? Я стараюсь как могу, и нет нужды погонять лошадь, когда та бежит сама. Ты одолжишь мне деньги?
– Ах, Феликс, ты же знаешь, как мы бедны. А ты по-прежнему держишь охотничьих лошадей.
– У меня всего две лошади, если ты об этом, и я с начала сезона не заплатил за их содержание и шиллинга. Послушай, матушка, да, это рискованная игра, но я веду ее по твоему совету. Если я женюсь на мисс Мельмотт, полагаю, все выправится. Однако едва ли верный путь к женитьбе – показать всему свету, что я на мели. Для такого дела нужно жить на достаточно широкую ногу. Я свел охоту к минимуму, но, если я совсем от нее откажусь, будет много желающих рассказать на Гровенор-сквер, отчего я так поступил.
На такой довод бедная женщина ничего возразить не смогла и в конце концов рассталась с требуемой суммой, хоть это и означало, что придется урезать другие важные расходы. Молодой человек ушел в отличном настроении, почти не слушая напутственных слов матери, как важно поскорее завершить дело с Мари Мельмотт.
Из дома Феликс направился в единственный клуб, где еще состоял. Клубы хороши всем, кроме одного: их нельзя посещать в долг, и, хуже того, они требуют годовые взносы вперед, так что молодому человеку пришлось себя ограничить. Разумеется, из всех клубов, чьи двери были для него открыты, он выбрал худший. Клуб этот назывался «Медвежий садок» и создан был недавно именно в тех видах, чтобы сочетать бережливость и мотовство. Как говорили некоторые бережливые моты, клубы разоряются из-за старых пней, которые почти ничего не платят сверх членских взносов, а расходу от них втрое больше, чем дохода. «Медвежий садок» открывался лишь в три пополудни, поскольку учредители считали, что раньше этого часа ни они, ни их друзья до клуба не доберутся. Здесь не выписывали утренних газет, не было ни библиотеки, ни утренней гостиной, только столовые, бильярдные и комнаты для карточной игры. Все обеспечивал единственный поставщик, чтобы только один человек обирал клуб, все закупалось роскошное, но из первых рук, а не в лавках. Герр Фосснер, поставщик, был истинное сокровище и так устраивал дела, что все шло без сучка без задоринки. Он даже помогал улаживать карточные долги и очень ласково обходился с теми, на чьих чеках банкиры сурово писали «нет средств». Герр Фосснер был истинное сокровище, и «Медвежий садок» процветал. Никто в городе, наверное, не любил «Медвежий садок» больше сэра Феликса Карбери. Клуб располагался поблизости от других подобных заведений, в улочке, отходящей от Сент-Джеймс-стрит, и гордился своей внешней скромностью. Зачем услаждать взор прохожих, тратиться на мраморные колонны и фронтоны, если их нельзя ни съесть, ни выпить, ни сыграть с ними в карты? Зато в «Медвежьем садке» было лучшее вино – по крайней мере, так уверяли, – самые удобные кресла и два бильярдных стола превосходнее всего, что когда-либо обтягивали зеленым сукном. Сюда-то сэр Феликс и направился в тот январский день, как только выманил у матери чек на двадцать фунтов.
Здесь он нашел своего закадычного приятеля, Долли Лонгстаффа. Тот стоял на ступенях с сигарой в зубах, устремив отсутствующий взгляд на скучный кирпичный фасад напротив.
– Обедаете здесь, Долли? – спросил сэр Феликс.
– Пожалуй, здесь, уж больно хлопотно тащиться куда-то еще. Я к кому-то зван, но сил нет ехать домой переодеваться. Ей-богу, не понимаю, как другие это делают. Я не могу.
– Завтра на охоту?
– Да, но вряд ли доеду. Прошлую неделю я думал охотиться каждый день, да мой человек никак не может поднять меня вовремя. Не понимаю, для чего все устраивают так несуразно? Почему не выезжать на охоту часа в два или три, чтобы людям не вскакивать в безбожную рань?
– Потому что нельзя охотиться при луне, Долли.
– В три часа луны нет. В любом случае я не могу приехать на вокзал к девяти. Да и мой человек, думаю, сам не любит рано вставать. Он говорит, что приходит меня будить, но я ничего такого не помню.
– Сколько у вас в Лейтоне лошадей, Долли?
– Сколько? Было пять, но, кажется, мой человек одну продал, потом вроде бы купил другую. Что-то такое точно было.
– Кто на них ездит?
– Он и ездит, думаю. То есть, разумеется, я сам на них езжу, только я редко туда добираюсь. Кто-то мне сказал, на той неделе Грасслок на двух из них ездил. Не помню, чтобы я давал ему разрешение. Не иначе как дал взятку моему человеку. Я называю это низостью. Я б его спросил, да он скажет, что я ему позволил. Может, я был подшофе.
– Вы с Грасслоком никогда не были друзьями.
– Не люблю я его. Задирает нос, оттого что лорд, и характер прескверный. Не понимаю, зачем ему ездить на моих лошадях.
– Чтобы сэкономить на своих.
– Он не бедствует. Отчего ему не иметь своих лошадей? Вот что я скажу, Карбери, одно я решил твердо и, клянусь Богом, не отступлю от своего решения. Никому больше не дам лошадь. Если кому нужны лошади, пусть покупают своих.
– Не у всех есть деньги, Долли.
– Пусть берут в долг. Не помню, чтобы я платил за тех, что купил в этом году. Вчера кто-то сюда приходил…
– Как?! Сюда, в клуб?
– Да, разыскал меня здесь и требовал за что-то заплатить! Судя по его штанам, за лошадей.
– И что вы ему сказали?
– Я? Ничего.
– И чем все кончилось?
– Когда он закончил распинаться, я угостил его сигарой и, покуда он скусывал кончик, ушел наверх. Думаю, ему прискучило ждать, и он ушел.
– Вот что, Долли. Я бы попросил у вас двух лошадок на пару дней, – разумеется, если они вам самому не нужны. Сейчас вы по крайней мере не подшофе.
– Не подшофе, – меланхолически признал Долли.
– Нехорошо выйдет, если я возьму ваших лошадей, а вы забудете наш разговор. Никто лучше вас не знает, как у меня туго с деньгами. Я выкарабкаюсь, но сейчас чистый зарез. Я бы никого, кроме вас, не стал просить о таком одолжении.
– Ладно, берите. На два дня то есть. Не знаю, поверит ли вам мой человек. Грасслоку не поверил, так ему и сказал. А Грасслок все равно вывел их из конюшни. Мне кто-то говорил.
– Можете черкнуть конюху пару строк.
– Право, мой любезный, это такая канитель, вряд ли я соберусь. Мой человек вам поверит, мы ведь друзья. Пойдем выпьем по капельке кюрасао перед обедом, для аппетита.
Было уже почти семь. Девять часов спустя они оба, вместе с еще двумя членами клуба, одним из которых был лорд Грасслок, личная антипатия Долли Лонгстаффа, встали из-за карточного стола. Ибо надо понимать, что «Медвежий садок» хоть и открывался только в три часа дня, ночью там ни в чем не было отказа. Никто не мог позавтракать в «Медвежьем садке», а вот ужинать в три часа ночи не возбранялось. Такой ужин, который вернее будет назвать чередой ужинов, шел здесь и в эту ночь; то одному, то другому члену клуба приносили жаркое и горячие тосты, тем не менее игра не прерывалась с тех самых пор, как в десять распечатали колоду. К четырем утра Долли Лонгстафф легко мог одолжить кому-нибудь своих лошадей и начисто запамятовать. Он испытывал самую теплую приязнь к лорду Грасслоку, да и к остальным тоже, как всегда в таком состоянии. Он вовсе не был мертвецки пьян и даже едва ли сделался глупее, чем на трезвую голову, однако готов был на любую игру, понятную ему или непонятную, и по любым ставкам. Когда сэр Феликс встал и сказал, что не будет больше играть, Долли тоже встал, нисколько не огорченный. Когда лорд Грасслок мрачно нахмурился и объявил, что не дело закачивать игру, когда столько проиграно, Долли так же охотно сел обратно. Но того, что Долли сел, было мало.
– Я завтра еду охотиться, – сказал сэр Феликс, имея в виду сегодняшний день, – и больше играть не буду. Надо ж сколько-то поспать.
– Я решительно не согласен, – возразил лорд Грасслок. – Принято, чтобы человек, выигравший сколько вы, оставался играть.
– И как долго он обязан играть? – раздраженно спросил сэр Феликс. – Чепуха. Всему когда-нибудь бывает конец, и я сегодня больше играть не намерен.
– Что ж, если вам так угодно, – ответил лорд.
– Мне так угодно. Доброй ночи, Долли. Сочтемся при следующей встрече. У меня все записано.
Результаты этой ночи были для сэра Феликса самые значительные. Он сел играть с деньгами, полученными по чеку матери, а теперь у него в кармане лежало… он сам не знал, сколько у него в кармане. Он тоже был пьян, но не настолько, чтобы утратить ясность мыслей. Он знал, что Лонгстафф должен ему больше трехсот фунтов и что от лорда Грасслока и четвертого игрока он получил наличными и чеками еще больше. Долли Лонгстафф, разумеется, заплатит, хоть и сетовал на домогательства торговцев. Идя по Сент-Джеймс-стрит и высматривая кэб, сэр Феликс прикинул, что у него должно быть больше семисот фунтов. Выпрашивая у леди Карбери жалкие двадцать фунтов, он сказал, что не может продолжать игру без наличных денег, и почитал удачей, что вытянул у нее хоть столько. Теперь он разбогател – во всяком случае, получил материальные средства для намеченного дела. Ему и на миг не пришла мысль заплатить торговцам. Даже такая большая и нежданная сумма не могла подвигнуть его на подобное донкихотство; однако теперь он мог одеваться, покупать подарки и вообще показывать, что не стеснен в средствах. В наше время трудно ухаживать за девицей, если в кошельке пусто.
Кэба он не нашел, но в нынешнем состоянии духа пешая прогулка его не пугала. Было в радости от обладания такой суммой что-то, отчего ночной воздух сделался ему приятен. Внезапно сэру Феликсу вспомнилось, как мать, когда он пришел за помощью, ныла о своей бедности. Теперь можно было вернуть ей двадцать фунтов. Однако он с непривычной для себя предусмотрительностью подумал, что возвращать ей деньги неразумно. Как скоро они снова ему понадобятся? И хуже того, пришлось бы объяснить, откуда они взялись. Куда лучше промолчать. Входя в дом и поднимаясь к себе, сэр Феликс окончательно решил ничего о деньгах не говорить.
В девять утра он был на вокзале и следующие два дня охотился в Бакингемшире на лошадях Долли Лонгстаффа, за что заплатил «человеку» Долли тридцать шиллингов.
Глава IV. Бал мадам Мельмотт
Через день после описанной игры в «Медвежьем садке» на Гровенор-сквер давали большой бал, о котором только и было разговоров с открытия парламента две недели назад. Некоторые говорили, что бал в феврале никак не может иметь успеха. Другие возражали, что при таких деньгах, в анналах бальной истории беспримерных, за успех можно не опасаться. И не только деньги были пущены в ход. Почти немыслимые усилия прилагались, чтобы зазвать великих людей, и усилия эти наконец дали плоды. Герцогиня Стивенэйдж приехала из замка Олбери с дочерями, дабы присутствовать с ними на балу, хотя прежде избегала Лондона в это ненастное время года. Без сомнения, средства для ее убеждения были применены самые сильные. Все знали о бедственном положении ее брата, лорда Альфреда Грендолла; по слухам, в последнее время оно заметно исправилось благодаря своевременной финансовой помощи. Утверждали, что один из молодых Грендоллов, второй сын лорда Альфреда, получил в некоем торговом предприятии место с жалованьем куда большим, чем, по мнению ближайших друзей, заслуживали его таланты. Совершенно точно он четыре или пять дней в неделю проводил на Эбчерч-лейн в Сити и предавался этому столь непривычному для него занятию не задаром. А там, где будет герцогиня Стивенэйдж, будет и весь свет. За день до бала сделалось известно, что приедет один из принцев. Как этого добились, никто толком не понимал, но слухи утверждали, что драгоценности некой дамы выкупили из ломбарда. Все остальное было на той же высоте. Премьер-министр не позволил включить его в список гостей, но один кабинетный министр и двое-трое подсекретарей согласились приехать, поскольку ожидалось, что хозяин дома вскоре сделается заметной фигурой в парламенте. Считали, что он метит в политику, а всегда полезно иметь такого богатого человека на своей стороне. Поначалу за бал очень беспокоились, и многие предрекали беду. Когда грандиозная затея проваливается, неудача бывает сокрушительной, даже катастрофической. Но этот бал уже не мог провалиться.