Первое стихотворение я написала, когда мне было одиннадцать лет. Стихи начались для меня не с Пушкина и Лермонтова, а с Державина («На рождение порфирородного отрока») и Некрасова («Мороз, Красный нос»). Эти вещи знала наизусть моя мама.
Училась я в Царскосельской женской гимназии. Сначала плохо, потом гораздо лучше, но всегда неохотно.
В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных стихов. Отзвуки революции Пятого года глухо доходили до отрезанной от мира Евпатории. Последний класс проходила в Киеве, в Фундуклеевской гимназии, которую и окончила в 1907 году.
Я поступила на юридический факультет Высших женских курсов в Киеве. Пока приходилось изучать историю права и особенно латынь, я была довольна, когда же пошли чисто юридические предметы, я к курсам охладела.
В 1910 (25 апреля ст. ст.) я вышла замуж за Н. С. Гумилева, и мы поехали на месяц в Париж.
Прокладка новых бульваров по живому телу Парижа (которую описал Золя) была еще не совсем закончена (бульвар Raspail). Вернер, друг Эдиссона, показал мне в «Taverne de Pantеon» два стола и сказал: «А это ваши социал-демократы, тут – большевики, а там – меньшевики». Женщины с переменным успехом пытались носить то штаны (jupes-cullottes), то почти пеленали ноги (jupes-entravеes). Стихи были в полном запустении, и их покупали только из-за виньеток более или менее известных художников. Я уже тогда понимала, что парижская живопись съела французскую поэзию.
Переехав в Петербург, я училась на Высших историко-литературных курсах Раева. В это время я уже писала стихи, вошедшие потом в мою первую книгу.
Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете.
В 1910 году явно обозначился кризис символизма, и начинающие поэты уже не примыкали к этому течению. Одни шли в футуризм, другие – в акмеизм. Вместе с моими товарищами по Первому Цеху поэтов – Мандельштамом, Зенкевичем, Нарбутом – я сделалась акмеисткой.
Весну 1911 года я провела в Париже, где была свидетельницей первых триумфов русского балета. В 1912 году проехала по Северной Италии (Генуя, Пиза, Флоренция, Болонья, Падуя, Венеция). Впечатление от итальянской живописи и архитектуры было огромно: оно похоже на сновидение, которое помнишь всю жизнь.
В 1912 году вышел мой первый сборник стихов «Вечер». Напечатано было всего триста экземпляров. Критика отнеслась к нему благосклонно.
1 октября 1912 года родился мой единственный сын Лев.
В марте 1914 года вышла вторая книга – «Четки». Жизни ей было отпущено примерно шесть недель. В начале мая петербургский сезон начал замирать, все понемногу разъезжались. На этот раз расставание с Петербургом оказалось вечным. Мы вернулись не в Петербург, а в Петроград, из XIX века сразу попали в XX, все стало иным, начиная с облика города. Казалось, маленькая книга любовной лирики начинающего автора должна была потонуть в мировых событиях. Время распорядилось иначе.
Каждое лето я проводила в бывшей Тверской губернии, в пятнадцати верстах от Бежецка. Это не живописное место: распаханные ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба… Там я написала очень многие стихи «Четок» и «Белой стаи». «Белая стая» вышла в сентябре 1917 года.
К этой книге читатели и критика несправедливы. Почему-то считается, что она имела меньше успеха, чем «Четки». Этот сборник появился при еще более грозных обстоятельствах. Транспорт замирал – книгу нельзя было послать даже в Москву, она вся разошлась в Петрограде. Журналы закрывались, газеты тоже. Поэтому в отличие от «Четок» у «Белой стаи» не было шумной прессы. Голод и разруха росли с каждым днем. Как ни странно, ныне все эти обстоятельства не учитываются.
После Октябрьской революции я работала в библиотеке Агрономического института. В 1921 году вышел сборник моих стихов «Подорожник», в 1922 году – книга «Anno Domini».
Примерно с середины 20-х годов я начала очень усердно и с большим интересом заниматься архитектурой старого Петербурга и изучением жизни и творчества Пушкина. Результатом моих пушкинских штудий были три работы – о «Золотом петушке», об «Адольфе» Бенжамена Констана и о «Каменном госте». Все они в свое время были напечатаны.
Работы «Александрина», «Пушкин и Невское взморье», «Пушкин в 1828 году», которыми я занимаюсь почти двадцать последних лет, по-видимому, войдут в книгу «Гибель Пушкина».
С середины 20-х годов мои новые стихи почти перестали печатать, а старые – перепечатывать.
Отечественная война 1941 года застала меня в Ленинграде. В конце сентября, уже во время блокады, я вылетела на самолете в Москву.
До мая 1944 года я жила в Ташкенте, жадно ловила вести о Ленинграде, о фронте. Как и другие поэты, часто выступала в госпиталях, читала стихи раненым бойцам. В Ташкенте я впервые узнала, что такое в палящий жар древесная тень и звук воды. А еще я узнала, что такое человеческая доброта: в Ташкенте я много и тяжело болела.
В мае 1944 года я прилетела в весеннюю Москву, уже полную радостных надежд и ожидания близкой победы. В июне вернулась в Ленинград.
Страшный призрак, притворяющийся моим городом, так поразил меня, что я описала эту мою с ним встречу в прозе. Тогда же возникли очерки «Три сирени» и «В гостях у смерти» – последнее о чтении стихов на фронте в Териоках. Проза всегда казалась мне и тайной и соблазном. Я с самого начала все знала про стихи – я никогда ничего не знала о прозе. Первый мой опыт все очень хвалили, но я, конечно, не верила. Позвала Зощенку. Он велел кое-что убрать и сказал, что с остальным согласен. Я была рада. Потом, после ареста сына, сожгла вместе со всем архивом.
Меня давно интересовали вопросы художественного перевода. В послевоенные годы я много переводила. Перевожу и сейчас.
В 1962 году я закончила «Поэму без героя», которую писала двадцать два года.
Прошлой весной, накануне дантовского года, я снова услышала звуки итальянской речи – побывала в Риме и на Сицилии. Весной 1965 года я поехала на родину Шекспира, увидела британское небо и Атлантику, повидалась со старыми друзьями и познакомилась с новыми, еще раз посетила Париж.
Я не переставала писать стихи. Для меня в них – связь моя с временем, с новой жизнью моего народа. Когда я писала их, я жила теми ритмами, которые звучали в героической истории моей страны. Я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных.
Анна Ахматова
1965[8 - Сб.: Анна Ахматова «Стихотворения и поэмы» (Библиотека поэта). Л., 1976, с. 19–22.]
Проза
Слово о Пушкине
Мой предшественник П. Е. Щеголев кончает свой труд о дуэли и смерти Пушкина рядом соображений, почему высший свет, его представители ненавидели поэта и извергли его, как инородное тело, из своей среды. Теперь настало время вывернуть эту проблему наизнанку и громко сказать не о том, что они сделали с ним, а о том, что он сделал с ними.
После этого океана грязи, измен, лжи, равнодушия друзей и просто глупости полетик и неполетик, родственничков Строгановых, идиотов-кавалергардов, сделавших из дантесовской истории une affaire de rеgiment (вопрос чести полка), ханжеских салонов Нессельроде и пр., высочайшего двора, заглядывавшего во все замочные скважины, величавых тайных советников – членов Государственного совета, не постеснявшихся установить тайный полицейский надзор над гениальным поэтом, – после всего этого как торжественно и прекрасно увидеть, как этот чопорный, бессердечный («свинский», как говаривал сам Александр Сергеевич) и уж, конечно, безграмотный Петербург стал свидетелем того, что, услышав роковую весть, тысячи людей бросились к дому поэта и навсегда вместе со всей Россией там остались.
«Il faut que j’arrange ma maison <Мне надо привести в порядок мой дом>», – сказал умирающий Пушкин.
Через два дня его дом стал святыней для его Родины, и более полной, более лучезарной победы свет не видел.
Вся эпоха (не без скрипа, конечно) мало-помалу стала называться пушкинской. Все красавицы, фрейлины, хозяйки салонов, кавалерственные дамы, члены высочайшего двора, министры, аншефы и не-аншефы постепенно начали именоваться пушкинскими современниками, а затем просто опочили в картотеках и именных указателях (с перевранными датами рождения и смерти) пушкинских изданий.
Он победил и время и пространство.
Говорят: пушкинская эпоха, пушкинский Петербург. И это уже к литературе прямого отношения не имеет, это что-то совсем другое. В дворцовых залах, где они танцевали и сплетничали о поэте, висят его портреты и хранятся его книги, а их бедные тени изгнаны оттуда навсегда. Про их великолепные дворцы и особняки говорят: здесь бывал Пушкин – или: здесь не бывал Пушкин. Все остальное никому не интересно. Государь император Николай Павлович в белых лосинах очень величественно красуется на стене Пушкинского музея; рукописи, дневники и письма начинают цениться, если там появляется магическое слово «Пушкин», и, что самое для них страшное, – они могли бы услышать от поэта:
За меня не будете в ответе,
Можете пока спокойно спать.
Сила – право, только ваши дети
За меня вас будут проклинать.
И напрасно люди думают, что десятки рукотворных памятников могут заменить тот один нерукотворный, аеге perennius.
26 мая 1961
Комарово
Пушкин и дети
Хотя Пушкин сам меньше всего представлял себя «детским писателем»[9 - Когда Пушкина попросили написать что-нибудь для детей, он пришел в столь свойственную ему ярость: «Батюшка, Ваше сиятельство! побойтесь Бога: я ни Львову, ни Очкину, ни детям – ни сват, ни брат. Зачем же мне sot-действовать «Детскому журналу»? Уж и так говорят, что я в детство впадаю…» (Из письма А. С. Пушкина к В. Ф. Одоевскому. Декабрь. 1836 г. – Полное собрание сочинений в десяти томах, т. X, М., «Наука», 1965, стр. 616; sot-действовать – каламбур: sot – дурак (франц.) – там же, стр. 757. – Прим. Анны Ахматовой.], как теперь принято выражаться, хотя его сказки вовсе не созданы для детей, и знаменитое «Вступление» к «Руслану» тоже не обращено к детскому воображению, этим произведениям волею судеб было суждено сыграть роль моста между величайшим гением России и детьми.
Нет и не было ни одной говорящей по-русски семьи, где дети могли бы вспомнить, когда они в первый раз слышали это имя и видели этот портрет.
Но все мы бесчисленное количество раз слышали от трехлетних исполнителей «Кота ученого» и «Ткачиху с поварихой» и видели, как розовый пальчик тянулся к портрету в детской книге: и это называлось – «дядя Пускин»[10 - «Конька-Горбунка» Ершова тоже все знают и любят. Однако я никогда не слышала «Дядя Ершов»! А вы? – Прим. Анны Ахматовой.].
Стихи Пушкина дарили детям русский язык в самом совершенном его великолепии, язык, который они, может быть, никогда больше не услышат и на котором никогда не будут говорить, но который все равно будет при них как вечная драгоценность.
В 1937 г., в юбилейные дни, соответственная комиссия постановила снять неудачный памятник Пушкину в темноватом сквере на П<ушкин>ской ул. в Ленинграде[11 - Поставленный в 1884 году в той части города, которая еще не существовала в пушкинское время. – Прим. Анны Ахматовой.]. Послали грузовик-кран – вообще все, что полагается в таких случаях.
Но затем произошло нечто беспримерное. Дети, игравшие в сквере вокруг памятника, подняли такой вой, что пришлось позвонить куда следует и спросить: «Как быть?» – Ответили: «Оставьте им памятник», и грузовик уехал пустой.
Февраль 37 г. – расцвет ежовщины. Можно с полной уверенностью сказать, что у доброй половины этих малышей уже не было пап (а у многих и мам), но охранять дядю Пускина они считали своей священной обязанностью.



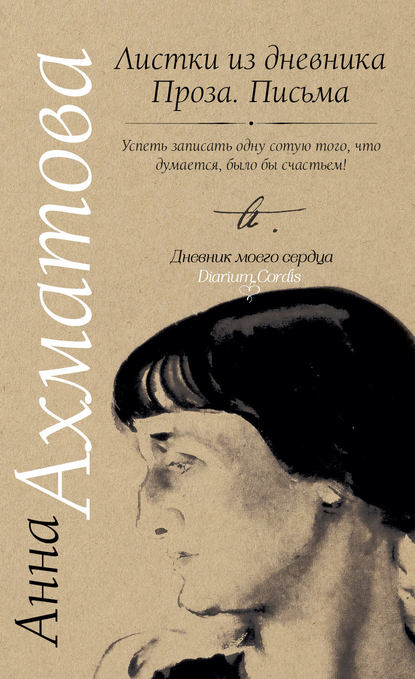




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0