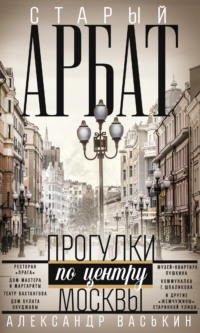
Старый Арбат. Прогулки по центру Москвы
Кормили здесь недурно, а иначе Петр Боборыкин – знаток московского хлебосольства – не отправил бы в «Прагу» героев своего романа «Китай-город»: «Было около пяти часов утра… Стоял он на площади у въезда на Арбат, в десяти шагах от решетки Пречистенского бульвара. Фонари погасли. Он посмотрел на правый угловой дом Арбата и вспомнил, что это трактир „Прага“. Раз как-то, еще вольным слушателем, он шел с двумя приятелями по Арбату, часу в двенадцатом. И всем захотелось есть. Они поднялись в этот самый трактир, сели в угловую комнату. Кто-то из них спросил сыру „бри“. Его не оказалось, но половой вызвался достать. Принесли целый круг. Запивая пивом, они весь его съели и много смеялись. Как тогда весело было! Тогда он мечтал о кандидатском экзамене и о какой-нибудь „либеральной“ профессии, адвокатстве, писательстве… Он огляделся. Некрасива матушка-
Москва: куда ни взглянешь – все серо, грязно, запущено, тускло. Пора очищать ее, пора добираться и до ее сундуков». Боборыкин был явно неравнодушен к Первопрестольной…
А хозяйка «пражского» дома Вера Ивановна Фирсанова – человек для Москвы и России знаковый, миллионерша и меценатка, из тех, что деньги свои не только с умом вкладывали, но и тратили на благие дела. Платформу Фирсановка, что ныне в черте Химок, многие дачники знают – это в честь Веры Ивановны названо. В 1869 году, когда Верочке исполнилось 7 лет, отец ее, купец 1-й гильдии Иван Григорьевич Фирсанов, вырубил здешний лес, продал его, выстроив дачи. И земля эта, и многое другое отошло в наследство любимой дочери. Только вот в личной жизни ей не повезло – сначала скупердяй достался, каких еще поискать на Руси, банковский служащий. Затем генеральский сынок, кутила и большой ходок. Вот ведь судьба русской женщины: первый муж был жмот, а второй – мот. И с обоими она развелась, заплатив им в качестве отступных по миллиону (если это и неправда, то красивая!). И пришлось отважной женщине самой взять в руки управление «активами».
Кстати, пример Веры Фирсановой далеко не единственный. Деловые женщины той эпохи как-то очень легко овладевали ситуацией, оттесняя мужчин на второй план. Взять хотя бы Варвару Морозову. А вот какой случай рассказывал потомственный почетный гражданин и промышленник Николай Александрович Варенцов про одного из купцов, Николая Ивановича Казакова, которого выставила из его собственного дома любимая супруга, урожденная Байдакова: «Произошло это так: его отец Иван Иванович купил на Арбате, в Конюшенном переулке, землю, на которой построил отличный двухэтажный дом и подарил его сыну. Николай Иванович, пылая страстью к своей довольно миловидной жене, пожелал перевести дом на ее имя, о чем, как-то разговаривая со мной, сообщил мне. У меня невольно вырвалось изумление на таковое его желание, я не удержался и сказал: „Зачем вы это хотите делать? Мало ли что может случиться в жизни! Смотрите, чтобы потом не раскаяться!“ Он обиженным голосом мне ответил: „У меня с женой ничего не может случиться! У нас все общее и нераздельное!..“ Выдворила она его из дома, как передавали мне, через полицию. После чего он переехал в дом своего брата, у которого жил до конца своей жизни, сильно пристрастившись к вину, лишившись дома и дела». Вот вам и Васса Железнова с Арбата! А вы говорите – миллион за развод…
На средства Веры Ивановны Фирсановой в Москве построены Дом для вдов и сирот в Электрическом переулке, Сандуновские бани, Петровский пассаж (его тоже прозвали Фирсановским). А Середниково, откуда до Фирсановки рукой подать (известное «лермонтовское» место Подмосковья, также купленное ее отцом в 1869 году) превратилось при радушной хозяйке в место встречи культурной общественности России. Здесь пел Федор Шаляпин, музицировал Сергей Рахманинов, творили Валентин Серов и Константин Юон. После 1917 года Вера Ивановна так бы и доживала свой век в коммуналке своего бывшего дома, если бы, благодаря Шаляпину, ей не удалось покинуть Советскую Россию. Умерла она не в Праге, а в Париже в 1934 году, в 82 года.
Хозяйкой «Праги» Вера Фирсанова-Гонецкая была по 1894 год, как следует из ежегодного справочника «Вся Москва» за этот год. Справочник издавался под разными названиями с 1872 года и очень удобен для поиска местонахождения самых разных московских организаций и даже отдельных граждан. А уже в справочнике за 1895 год ресторан числится за купцом Семеном Тарарыкиным: «Ресторан Тарарыкина в доме Гонецкой», то есть купец арендовал это здание. Самому Тарарыкину принадлежал и дом № 5 на противоположной стороне Арбата. В конце концов дом полностью перейдет к Тарарыкину.
Старомосковская легенда гласит, что купец выиграл «Прагу» в бильярд. Если это так, то именно второй муж Веры Фирсановой – игрок и офицер Алексей Гонецкий – и продул ресторан Тарарыкину в 1896 году, и не в карты, а в бильярд. Мало того, Семен Петрович играл левой рукой, что не так-то легко. Следовательно, трактир достался ему заслуженно и не случайно, и не в лотерею. Хотя в бильярд на что только не играли в прошлые века: знатные мужья ставили на кон своих молодых жен, а писатели – новые повести и романы. Чего только не случается… А пристрастие Тарарыкина к бильярду подтверждается тем фактом, что в своем ресторане он оборудовал прекрасную бильярдную, в которую съезжались игроки со всей Москвы.
Как обедали в «Праге» в начале XX века? Осталось уникальное свидетельство писательницы и драматурга Рашели Хин. Сегодня ее творчество прочно забыто, а в те времена ее литературный салон был весьма популярен в Москве. Она училась в Сорбонне, водила знакомство с Львом Толстым и Иваном Тургеневым, Густавом Флобером и Эмилем Золя. 9 февраля 1902 года Рашель Хин записала в дневнике: «…Устроили в ресторане „Прага“ обед в честь приехавших из Петербурга Михайловского, Вейнберга и Боборыкина (литераторы. – А. В.)… Собралось человек пятьдесят. Большинство друг друга не знало или знало по виду, и поэтому все избегали смотреть друг другу в лицо, косились, сталкиваясь, отворачивались, делая равнодушную мину. Знакомые разбились „по уголкам“. Приехали, наконец, „дорогие гости“. Сначала Михайловский, а за ним и Петр Дмитриевич с Вейнбергом. Их встретили, как водится, аплодисментами. Они раскланивались „улыбчиво“. Пошли закусывать – и тут уж не было „официалыцины": тыкались вилками в одно место, переливали через край рюмки; балык, семга исчезли в мгновенье ока, у кого-то из жадных рук вывалилась коробка с сардинками и хлопнулась на пол. Покончив с закуской, стали рассаживаться. Места заранее не были размечены… Обеденная зала в „Праге“ похожа на гроб. Потолок низенький – совсем крышка гроба. И вот, когда все принялись за суп, водворилось такое безнадежное молчанье, что стало даже неловко, жутко… После супа ждали, что кто-нибудь встанет и скажет „словечко“. Но никто не произнес ни одного звука, все еще глубже уткнулись в тарелки и ели с таким жаром, точно они до этого три месяца голодали. Подали разварную рыбу в каком-то пресном соусе. Съели… Подают, наконец, скверное мороженое – и в обыкновенные рюмки наливают тепловатое шампанское… (Хороша „Прага“!)… Мороженое съедено. Шампанское в рюмках выпито до последней капли».

В.Е. Маковский. В трактире. 1887 г.
Короче говоря, Боборыкину обед не понравился: он назвал его «скверным» и уехал, ни с кем не прощаясь. Оставшиеся стали судить да рядить по поводу неудавшегося банкета. Все пришли к выводу, что подписка на обед была организована крайне неудачно: если «назначили бы по 10 рублей с персоны, было бы и вино, и шампанское настоящее, и настроение… А то за три целковых с человека вздумали принимать таких „генералов“… Словом, все были недовольны». А один из участников пиршества заметил: «Сколь печально, что русская интеллигенция не умеет отводить душу в обществе своих „властителей дум"».
Семен Тарарыкин не раз перестраивал на новый лад доставшийся ему ресторан, где обеденная зала была «похожа на гроб». В 1902 году здание преобразилось по проекту талантливого зодчего Льва Кекушева – вход в ресторан теперь устроили с Арбата. Серьезным образом изменились и его интерьеры. А в 1914–1915 годах над образом «Праги» «поработал» не менее выдающийся архитектор Адольф Эрихсон, придумав зданию необычную надстройку (по которой мы и узнаем ресторан поныне) и опять же изменив его внутреннее убранство. «Прага» славилась своими удивительными зеркалами, в которых смотрелись чуть ли не все русские литераторы первых десятилетий XX века. Осип Мандельштам, к примеру, в 1922 году вспоминал те времена, «когда половой, отраженный двойными зеркалами ресторана „Прага“, воспринимался как мистическое явление».
Что, помимо зеркал, отличало новый ресторан от конкурентов? Не только кухня, а еще и планировка залов, ибо по московским трактирным традициям большая часть столов находилась, как правило, в одном зале, и обедающие могли свободно видеть друг друга. Вот почему хозяин Большого Московского трактира в Охотном Ряду купец Карзинкин любил обедать вместе со всеми в зале – дескать, он ест из того же котла, что и все его гости, у которых не должно остаться ни малейшего сомнения в качестве кухни. Тарарыкин завел в «Праге» новый порядок: обедать и ужинать посетители могли в отдельных просторных кабинетах (число их доходило до десятка), каждый из которых имел свое, как сейчас говорят, эксклюзивное оформление. А для гурманов – пожалуйте в зимний сад!

Интерьер «Праги». Начало XX в.
Посему столько разных банкетов и прочих мероприятий (по составу их участников) прошло под сводами «Праги», что по ним можно изучать историю России соответствующего периода. Здесь, например, собирались преподаватели и профессора медицинского факультета Московского университета, исповедующие левые взгляды. Их собрания нарекли «пражским факультетом». Петербургская газета «Новое время» билась в праведном гневе: что это происходит в Московском университете? Не иначе как засилье «левых профессоров-медиков», собирающихся в «Праге» и регулярно обсуждающих в залах ресторана свои «вредные» воззрения. Послали даже запрос ректору университета Михаилу Мензбиру, тот остроумно ответил, что «ресторан „Прага“ не принадлежит к числу учебно-вспомогательных учреждений университета и что ректор не имеет никаких сведений о том, что делается в помещении этого ресторана», так описал эти события историк-медиевист Александр Савин в своем дневнике от 27 сентября 1913 года.
А в другом зале ресторана собирались московские юристы. Товарищ (то есть заместитель) прокурора Московского окружного суда Николай Чебышев вспоминал в эмиграции: «Рестораны Москвы отличались от Петербургских психологической особенностью. Мы чувствовали себя в московских ресторанах как дома. „Прага“ была нашей, прокурорского надзора, штаб-квартирой. Нас там знали, как в семье. Наши вкусы были известны». По поводу прокуроров у Константина Коровина в воспоминаниях приводится интересный анекдот: «Много неприятностей через снег выходит: люди пропадают. Генерал среди бела дня пропал. Прокурор из Окружного суда пробивался в ресторан „Прага“ пообедать – пропал, куда делся, неизвестно. Потом только открылось – волки его съели. Днем туда-сюда, а вечером волки стадами бегают, народ заедают до смерти. Я, конечно, это проглядел, но мне все это за границей прогрессисты рассказали. Я что-то таких снегов не помню». Художник (и замечательный рассказчик) Константин Коровин иронизирует по поводу ходивших в те годы разговоров о невообразимо снежных московских зимах, во время которых по городу, словно по лесу, слоняются волки.
Хорошо знакомы официантам «Праги» были и вкусы офицеров штаба Московского военного округа, также избравших ресторан местом своих встреч. Однажды с офицерами за одним столом оказался Иван Бунин. «Рядом два офицера, – недавние штатские, – один со страшными бровными дугами. Под хаки корсет. Широкие, колоколом штаны, тончайшие в коленках. Золотой портсигар с кнопкой, что-то вроде жидкого рубина. Монокль. Маленькие, глубокие глазки. Лба нет – сразу назад от раздутых бровных дуг» (запись в дневнике от 9 мая 1915 года). И тут же Иван Алексеевич отмечает интересную особенность: «У метрдотелей от быстрой походки голова всегда назад».
В «Праге» отмечали избрание Бунина в академики: «Бунин увенчан не впервые. Трижды он получал в России Пушкинскую премию. 1 ноября 1909 г. был избран академиком по разряду изящной словесности (в заседании Академии, посвященном Кольцову). Ясно помню тот день, вечер в московском ресторане „Прага“, где мы в малом кругу праздновали избрание Ивана Алексеевича академиком, „бессмертным“… Вряд ли и он забыл ноябрьскую Москву, Арбат. Могли ли мы думать тогда, что через четверть века будем на чужой земле справлять торжество беспредельно-большее – не гражданами великой России, а безродными изгнанниками?» – вспоминал Борис Зайцев в эмиграции в 1933 году, когда Бунина удостоили Нобелевской премии. В Париже у русских эмигрантов тоже была своя «Прага»: «Представь, такой здесь ресторанчик. Но до нашей далеко» (из письма Зайцева Бунину от 17 января 1940 года).
У Бунина «Прага» – место действия его рассказов. Это и «Чистый понедельник», куда герой возит чуть ли не каждый вечер обедать свою даму, и «Муза», и «Речной трактир»: «В „Праге“ сверкали люстры, играл среди обеденного шума и говора струнный португальский оркестр, не было ни одного свободного места. Я постоял, оглядываясь, и уже хотел уходить, как увидел знакомого военного доктора, который тотчас пригласил меня к своему столику возле окна, открытого на весеннюю теплую ночь, на гремящий трамваями Арбат. Пообедали вместе, порядочно выпив водки и кахетинского, разговаривая о недавно созванной Государственной думе, спросили кофе…» А в «Окаянных днях» читаем»: «Весна семнадцатого года. Ресторан „Прага“, музыка, людно, носятся половые. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри…»
Заходил в ресторан Иван Бунин неоднократно: «Завтрак с Ильей Толстым в „Праге"» (запись от 29 января 1915 года). Илья Толстой – сын автора «Анны Карениной». Часто пишут, что сам Лев Николаевич Толстой читал на публику в «Праге» роман «Воскресение», но я сему факту подтверждения не нашел. Роман был опубликован в 1899 году, однако в жизнеописании писателя за эти годы название ресторана не встречается. А супруга Толстого Софья Андреевна в «Праге» бывала: «Обедали мы в ресторане „Прага“, пришел к нам Илюша (сын. – А. В.) на короткое время…», – сообщала она мужу 9 января 1904 года.
А вот чье появление в «Праге» запомнилось очевидцам, так это Леонида Андреева. Борис Зайцев вспоминал: «Слава же его тут-то и развернулась. Художественный театр, альманахи „Шиповника“, лекции, диспуты. Поклонники, поклонницы. Раз входили мы с ним в ресторан „Прага“ – румынский оркестр в честь его заиграл вальс из „Жизни человека“. Вся зала поднялась, аплодируя. Как будто в те годы (1907–1910) затмил он даже бывшего своего покровителя и наставника Горького». Имеется в виду популярная пьеса Андреева «Жизнь человека» 1907 года. Триумф оказался коротким: как метко выразился Зайцев, вскоре слава от Леонида Андреева «спряталась», его перестали называть новым Достоевским и Шекспиром. И румынский оркестр уже не играл в «Праге» вальс при появлении писателя.
Встреча Нового года состоятельными москвичами также проходила в «Праге». Особенно ярко и пышно проходили эти праздники перед русско-японской войной. Николай Варенцов свидетельствует: «Встреча Нового, 1904 года была особенно весела. Кого бы я ни спросил из своих знакомых, как встречали Новый год, от всех получал ответ: „Весело!“ Многие устраивали у себя балы, костюмированные вечера, но большинство заранее записывались на столики в ресторанах, спеша занять в них лучшие места. Рестораны „Метрополь“, „Прага“, „Эрмитаж“, „Яр“, „Стрельна“ – все были переполнены публикой до отказа с 11 часов вечера разряженными дамами, усыпанными бриллиантами, мехами, цветами; мужчинами во фраках. В 12 часов вся публика, стоя, подняв бокалы с шампанским, чокалась, и кругом только было слышно: „С Новым годом, с новым счастьем!“ Шампанское лилось, с выпитием неисчислимого количества бутылок, на радость французским виноделам. Были все довольны встречей Нового года и проведенным временем. Вернувшись домой, ложась в кровать, думали: этот год, наверное, принесет нам более счастья. Но, как говорят, „человек предполагает, а Бог располагает“! Так и случилось в этом 1904 году: вместо еще большего счастия получилось большое неожиданное горе».

Так выглядела «Прага» на дореволюционной открытке
Доказательством высокого уровня ресторанной кухни было то, что блюда из «Праги» доставляли на дом под заказ на крупные семейные торжества, собиравшие уйму гостей. Это считалось большим шиком. «Незадолго до последней войны, – рассказывал купец Павел Афанасьевич Бурышкин, – в некоторых домах московских снобов, на больших приемах, когда ужин готовил… [ресторан] „Прага“, завели обычай давать карточку. Ужинавший мог заказать, что угодно. Старые любители покушать строго осуждали это нововведение. „Если ты меня зовешь и хочешь приветствовать, – говорили они, – то избавь меня от заботы думать, чего бы вкусного я бы съел. А в трактир я и сам могу пойти – денег хватит"». Бурышкин приводит этот эпизод, желая доказать, что «пресловутое, легендарное московское хлебосольство состояло не в роскоши застольной трапезы. Оно выражалось в умении хозяина составить программу обеда и в способности создать приятную для приглашенных обстановку». И в этом видится проявление глубокого уважения к гостям.
В 1917 году история дореволюционной «Праги» закончилась. И дело даже не в том, что в ресторане в октябрьские дни устроили склад боеприпасов. Адвокаты и офицеры уступили место рабочим и солдатам, столовавшимся здесь в голодные годы Гражданской войны. Впрочем, было бы странным, если бы «Прага» не помогла выжить и людям творческим, благодаря которым столики в ресторане никогда не пустовали. В бытовых записях Марины Цветаевой 1919–1920 годов находим: «В детский сад – Старо-Конюшенным на Пречистенку (за усиленным), оттуда в Пражскую столовую (на карточку от сапожников), из Пражской (советской) к бывшему Генералову – не дают ли хлеб». Попробуй-ка ныне разбери, о чем пишет Марина Ивановна, но мы попытаемся. «Усиленный» – означает академический паек, который представителям московской творческой интеллигенции выдавали в ЦЕКУБУ – Центральной комиссии по улучшению быта ученых на Пречистенке («Здесь Цекубу, здесь леший бродит, русалка на пайке сидит» – стишок тех времен). «Пражская столовая» Моссельпрома и находилась в бывшем ресторане «Прага». Бывший гастроном Генералова, где давали хлеб по карточкам, находился в тоже бывшем доме страхового общества «Россия» на Лубянской площади.
Нас, конечно, заинтересовали сапожники. При чем здесь они? В то время «Прага» была уже национализирована и превращена в столовую, где по карточкам кормили победивший пролетариат, в частности, представителей профсоюза сапожников. Чудесным образом карточка досталась и Марине Цветаевой: «Живу с Алей и Ириной (Але 6 л<ет>, Ирине 2 г<ода> 7 м<есяцев>) в Борисоглебском переулке, против двух деревьев, в чердачной комнате, бывшей Сережиной. Муки нет, хлеба нет, под письменным столом фунтов 12 картофеля, остаток от пуда, „одолженного“ соседями – весь запас!.. Живу даровыми обедами (детскими). Жена сапожника Гранского – худая, темноглазая, с красивым страдальческим лицом – мать пятерых детей – недавно прислала мне через свою старшую девочку карточку на обед (одна из ее девочек уехала в колонию) и „пышечку“ для Али…» Вот вам и разгадка.
А жила Марина Ивановна очень тяжело и голодно – есть было нечего. Жуткое впечатление производил московский дом поэтессы в Борисоглебском переулке, куда писатель Борис Зайцев как-то привез на салазках дрова: «Квартира немалая, так расположена, что средняя комната, некогда столовая, освещается окном в потолке, боковых нет. Проходя по ледяным комнатам с намерзшим в углах снегом, стучу в знакомую дверь, грохаю на пол охапку дров – картина обычная: посредине стол, над ним даже днем зажжено электричество, за ним в шубке Марина со своими серыми, нервно-мигающими глазами: пишет. У стены, на постели, никогда не убираемой, под всякою теплой рванью Аля. Видна голова и огромные на ней глаза, серые, как у матери, но слегка выпуклые, точно не помещающиеся в орбитах. Лицо несколько опухшее: едят они изредка». Маленькая дочь поэтессы Аля очень боялась крыс, что залезали на ее кровать, – грызунам нулевая температура в доме была нипочем. Цветаева и в мирное-то время была безалаберна в быту (свойство многих творческих людей!), а тут разруха – хоть ложись да помирай. В самом деле, трудно представить ее, выходящей ночью воровать заборы, – этим занимались тогда многие москвичи, искавшие, чем бы еще растопить печку.
А карточки из «Пражской столовой» помогли Марине Ивановне и детям: «Оттуда – по черной лестнице, обвешанная кувшинами, судками и жестянками – ни пальца свободного! и еще ужас: не вывалилась ли из корзиночки сумка с карточками?! – по черной лестнице – домой. Сразу к печке. Угли еще тлеют. Раздуваю. Разогреваю. Все обеды – в одну кастрюльку: суп вроде каши… Кормлю и укладываю Ирину… Кипячу кофе. Пью. Курю… В 10 часов день кончен. Иногда пилю и рублю на завтра. В 11 часов или в 12 часов я тоже в постель. Счастлива лампочкой у самой подушки, тишиной, тетрадкой, папиросой, иногда – хлебом…» А мы не перестаем удивляться тому, как причудливо пересекаются в судьбе Цветаевой две Праги: бывший ресторан и чешская столица, с которой у поэтессы так много связано.
Сегодня на другой стороне Арбатской площади стоит знаменитый дом, раскрашенный, как и в те далекие времена, аршинными буквами, составляющими слово «Моссельпром». К рекламе этой советской организации имеют прямое отношение Владимир Маяковский и Александр Родченко, собственно, по этой причине оно нам сегодня и интересно. А расшифровывается Моссельпром довольно скучно – Московское губернское объединение предприятий по переработке продуктов сельскохозяйственной промышленности. Существовал Моссельпром в 1922–1937 годах, а в «Праге» была столовая для его сотрудников. Маяковский воспел столовую в стихах, где упомянуты многие его собратья по перу:
В других столовыхлюди – тени.Лишь в «Моссельпроме»сытен кус.Там —и на кухнеи на сценездоровый обнаружен вкус.Там пиво светло,блюда полны,там —лишь пробьет обеда час —вскипают вдохновенья волны,по площади Арбатской мчась.Там —на неведомых дорожкахследы невиданных зверей,там все писателина ножкахстоят,дежуря у дверей.Там чудеса,там Родовбродит,Есенин на заре сидит,и сообща они находятприют, и ужин, и кредит.Там пылом выспренним охвачен,грозясь Лелевичу-врагу,пред представителем рабфачьимПильняк внедряетсяв рагу…Поэт, художник или трагик,забудь о днях тяжелых бед.У «Моссельпрома»,в бывшей «Праге»,тебе готовится обед.А вот еще один образец социальной рекламы:
Где провести сегодня вечер?Где назначить с приятелем встречу?Решенья вопросовне может быть проще:«Все дороги ведут…»на Арбатскую площадь.Здоровье и радость —высшие блага —в столовой «Моссельпрома»(бывшая «Прага»).Там весело, чисто,светло, уютно,обеды вкусны,пиво не мутно.Там людиразличных фронтов искусстввдруг обнаруживаютобщий вкус.Врагидруг на друга смотрят ласково —от Мейерхольдадо Станиславского.Там,если придется рядом сесть,Маяковский Толстогоне станет есть.А обазаказывают бефстроганов(не тронув Петра Семеныча Когана).Глядя на это с усмешкой, —и ты тамвесь проникаешься аппетитом.А видя,как мал поразительно счет,требуешь пищиеще и еще.Все, кто здоров,весели ловок,не посещают других столовок.Черта ли с пищейвозиться дома,если дешевлеу «Моссельпрома»…Неудивительно, что Илья Ильф и Евгений Петров, также обедавшие в этой столовой, отправили сюда же своих героев – Ипполита Матвеевича и Лизу из романа «Двенадцать стульев». Для Воробьянинова тот романтический ужин закончился печально, но могло быть и еще хуже, ибо обстановка в «Праге» изменилась в новые времена радикально. Работавший в Историческом музее нумизмат Алексей Васильевич Орешников обедал здесь. «Проехали в ресторан „Прага“, где съели 2 обеда по 90 копеек. Приготовлено вкусно, но сам ресторан скромнее прежнего, скатертей нет, за некоторыми столами „товарищи“ сидят в шапках или картузах», – читаем в дневнике от 19 ноября 1925 года. Отсутствие скатертей на столах – деталь чрезвычайно интересная. Надо думать, что и посуда была попроще, чтобы не раздражать новый контингент. Попадись под горячую руку обедающим «товарищам» отец русской демократии с его неуместными призывами поехать «в номера», и неизвестно, куда бы его после этого отправили.
В 1920-е годы не раз видели в «Праге» Сергея Есенина и частенько с пустыми карманами: «При мне однажды в „Праге“ у Есенина не хватило пятидесяти рублей на уплату по счету. И сейчас же из-за соседнего столика поднялся совершенно незнакомый нам гражданин и вручил эту сумму Есенину. Стоило ему при каких-нибудь затруднительных обстоятельствах назвать себя: „Я – Есенин“, как сейчас же кем-нибудь из публики оказывалась ему необходимая помощь», – рассказывал журналист Лев Повицкий, которого поэт именовал «старинным другом».

