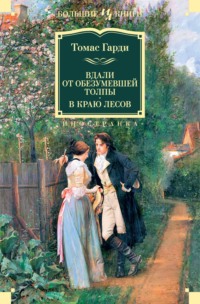
Вдали от обезумевшей толпы. В краю лесов
Лидди нагнулась разглядеть печать и прочла: «Женись на мне».
В тот же вечер письмо было отправлено и пришло в кэстербриджскую почтовую контору, где оно вместе со многими другими подверглось надлежащей сортировке, и на следующее утро снова вернулось в Уэзербери.
Так, от нечего делать, легкомысленно и беспечно, совершилось это дело. Любовь как зрелище – это было нечто хорошо знакомое Батшебе; но о любви как о душевном переживании она не имела ни малейшего представления.
Глава XIV
Действие письма. Восход солнца
В сумерки под вечер, в Валентинов день, Болдвуд, как обычно в это время, сел ужинать у пылающего камина. Перед ним на камине стояли часы с мраморной фигурой орла, и между распростертыми крыльями этого орла стояло письмо, присланное Батшебой.
Взгляд холостяка подолгу останавливался на этом письме, пока большая красная печать не отпечаталась у него в глазу кроваво-красным пятном; он ел, запивая из бокала, а слова на печати, которые он, конечно, не мог разобрать отсюда, так и стояли у него перед глазами: «Женись на мне».
Этот дерзкий вызов был подобен некоторым кристаллам, которые, будучи сами по себе бесцветны, принимают окраску окружающей их среды. Здесь, в этой строгой столовой, где ничему легкомысленному не было места, где атмосфера пуританского воскресенья царила всю неделю, это письмо с девизом утратило свою игривость и вместо присущего ему шутливого тона приобрело глубоко торжественную внушительность, проникнувшись ею из всего, что его окружало.
С той самой минуты утром, когда он получил это послание, Болдвуда не покидало странное ощущение, что его размеренная жизнь начинает медленно нарушаться, подчиняясь какому-то сладко волнующему чувству. Пока это было нечто смутно тревожащее, вроде первых плавающих водорослей, обнаруженных Колумбом, – что-то ничтожно малое, приоткрывавшее беспредельные возможности.
Это письмо должно было иметь какие-то побудительные причины. Что это мог быть такой пустяк, о котором и говорить-то не стоило, – этого Болдвуд, конечно, не знал. Ему это даже не приходило в голову. Человеку, одураченному чьим-нибудь поступком, трудно себе представить, что следствие поступка не зависит от того, совершен ли он по внутреннему побуждению или подсказан случайными обстоятельствами, – результат от этого не меняется. Огромное различие между тем, как завязывается цепь событий и как ход этих событий направляется в определенное русло, незаметно для человека, пострадавшего от их исхода.
Когда Болдвуд пошел спать, он взял письмо с собой и воткнул его в раму своего зеркала. Он ощущал его присутствие, даже не глядя на него, даже когда повернулся к нему спиной. Первый раз в жизни с Болдвудом случилось нечто подобное. То же самое ослепление, которое заставляло его воспринимать это письмо как нечто серьезно обоснованное, не позволяло ему даже заподозрить в нем пустую, дерзкую шутку. Он снова поглядел в его сторону. В таинственной темноте ночи перед ним смутно вставал образ незнакомки, приславшей письмо. Чья-то рука, женская рука, водила пером по этой бумаге, где начертано его имя; ее глаза, глаза, которых он не видел, следили за начертанием каждой буквы, а мысли ее в это время устремлялись к нему. Почему она думала о нем? Ее рот, ее губы – а какие они – алые, бледные, полные, сморщенные? – непрестанно изменяли выражение, в то время как перо скользило по бумаге и уголки рта трепетно вздрагивали? А что они выражали?
У этого видения женщины, пишущей письмо, как бы иллюстрирующего написанные слова, не было сколько-нибудь определенного облика. Это была какая-то призрачная тень, что в известной мере соответствовало действительности, так как сама виновница письма спала сейчас крепким сном, не думая ни о любви, ни о каких письмах на свете.
Стоило Болдвуду забыться сном – видение облекалось в какую-то форму и уже переставало быть призраком, а очнувшись, он видел перед собою письмо как бы в подтверждение своего сна.
Ночь была лунная, и луна светила как-то по-особенному. В окно падал отраженный свет, и его бледное сиянье, подобно отблеску сверкающего снега, отсвечивало вверх, причудливо озаряя потолок, отбрасывая неожиданные тени и освещая углы, обычно скрытые в тени.
Содержание письма не так взволновало Болдвуда, как самый факт его получения. Среди ночи ему внезапно пришло в голову, нет ли в конверте чего-нибудь еще, кроме обнаруженный им открытки. Он вскочил с кровати и в призрачном лунном свете схватил письмо, вытащил открытку, судорожно встряхнул конверт, провел пальцем внутри. Нет, больше ничего не было. Он снова, в который раз, пристально уставился на вызывающую красную печать. «Женись на мне», – громко произнес он.
Сдержанный, чопорный фермер снова вложил письмо в конверт и сунул его в раму зеркала. Мимоходом он взглянул на свое отражение и увидел бледное лицо с какими-то неопределенными чертами; увидел плотно сжатые губы, широко раскрытые, блуждающие глаза. Ему стало как-то неприятно и не по себе оттого, что он так взвинчен, и он снова улегся в постель.
Но вот занялся рассвет. Было еще так рано, когда Болдвуд встал и оделся, что, несмотря на ясное, безоблачное небо, все казалось сумрачным, как в хмурый, ненастный день. Он спустился вниз, вышел из дому и пошел направо к калитке, выходившей на поле. Подойдя к изгороди, он остановился и, опершись на нее, огляделся кругом.
Солнце всходило медленно, как всегда в это время года, и небо, почти фиолетовое над головой и свинцовое на севере, было затянуто мглой на востоке, где над заснеженным склоном или пастбищем Верхнего Уэзербери, словно присев отдохнуть на гребне, раскаленная, без лучей, пока еще только одна видимая половина солнца горела как красный шар на белом поду очага. Все вместе скорее походило на закат, как новорожденный младенец на древнего старца.
В обе другие стороны равнина, занесенная снегом, казалась настолько одного цвета с небом, что с первого взгляда нельзя было различить линию горизонта. А в общем и здесь было то же описанное ранее фантастическое перемещение света и тени, какое наблюдается в пейзаже, когда сверкающая яркость, присущая небу, переходит на землю, а темные тени земли – на небо. Низко на западе висела ущербная луна, мутная, желтая с прозеленью, словно потускневшая медь.
Рассеянно глядя по сторонам, Болдвуд машинально отмечал, как крепко схватило ледяной коркой снег на полях, который сейчас, в красном утреннем свете, сверкал, отливая, как мрамор; как там и сям на склоне засохшие пучки трав, скованные ледяными сосульками, поднимались над гладкой бледной скатертью, словно хрупкие изогнутые бокалы старого венецианского стекла, и как следы нескольких птиц, прыгавших, как видно, по рыхлому снегу, так и сохранились до поры до времени, скрепленные льдом. Приглушенный шум легких колес вывел его из задумчивости. Болдвуд обернулся и посмотрел на дорогу. Это была почтовая тележка, расшатанный двухколесный вагончик, который, казалось, вот-вот опрокинется от ветра. Почтарь протянул ему письмо. Болдвуд схватил его и надорвал конверт, полагая, что это еще одно анонимное послание, – у большинства людей представление о вероятности – это просто ощущение, что случившееся должно непременно повториться.
– Мне думается, это письмо не вам, сэр, – сказал почтарь, не успев остановить Болдвуда. – Имени-то на нем нет, но похоже, это вашему пастуху.
Болдвуд спохватился и прочел написанное на конверте:
Новому пастуху
Ферма Уэзерберивозле Кэстербриджа
– Ах, как это я так ошибся! Письмо вовсе не мне. И не моему пастуху, а пастуху мисс Эвердин. Уж вы лучше вручите это сами Габриэлю Оуку и скажите, что я распечатал его по ошибке!
В эту минуту на самом верху склона, на фоне пылающего неба, показалась темная фигура, словно черный обгоревший фитиль в пламени горящей свечи. Фигура двинулась и начала быстро и решительно переходить с места на место, перенося какие-то плоские квадратные предметы, пронизанные солнечными лучами. Следом за нею двигалась маленькая фигурка на четырех ногах.
Высокая фигура был не кто иной, как Габриэль Оук, маленькая – его пес Джорджи; перемещаемые с одного места на другое квадратные предметы – плетеные загородки из прутьев.
– Погодите, – сказал Болдвуд. – Вон он сам на холме. Я передам ему письмо.
Для Болдвуда это было уже не просто письмо, адресованное другому. Это был как нельзя более удобный случай. Он вышел на занесенное снегом поле, и по сосредоточенному выражению его лица видно было, что он что-то задумал.
Габриэль тем временем уже стал спускаться по правому склону холма. И красный солнечный свет брызнул в ту же сторону и уже коснулся видневшейся вдали солодовни Уоррена, куда, по-видимому, и направлялся пастух.
Болдвуд следовал за ним на некотором расстоянии.
Глава XV
Утренняя встреча. Еще одно письмо
Пурпурно-оранжевый свет, разгоравшийся снаружи, не проникал внутрь солодовни, которая, как всегда, была освещена соперничающим с ним светом тех же оттенков, исходившим из сушильной печи.
Солодовник, который спал всего несколько часов не раздеваясь, сидел сейчас возле небольшого столика о трех ножках и завтракал хлебом с копченой грудинкой. Он обходился без всяких тарелок, а отрезал себе ломоть хлеба и, положив его прямо на стол, клал на него кусок грудинки, на грудинку намазывал слой горчицы и все вместе сверху посыпал солью; затем все это нарезалось вертикально, сверху вниз, большим карманным ножом, который всякий раз ударялся лезвием о стол, отрезанный кусок подцеплялся на кончик ножа и отправлялся куда следовало.
Отсутствие зубов у солодовника, по-видимому, не отражалось на его способности перемалывать пищу. Он обходился без них уже столько лет, что перестал ощущать свою беззубость как недостаток, ибо приобрел взамен нечто более удобное – твердые десны. Вот уж поистине можно было сказать, что, хотя солодовник и приближался к могиле, он приближался к ней подобно тому, как гипербола приближается к прямой, – чем ближе он к ней подвигался, тем расстояние между ними убывало все медленнее, так что в конце концов казалось сомнительным, сойдутся ли они когда-нибудь.
В зольнике сушильни пеклась кучка картофеля и кипел горшок с настоем из жженого хлеба, именуемым «кофеем», – даровое угощение для всякого, кто бы ни зашел, ибо солодовня Уоррена, за отсутствием в деревне трактира, была чем-то вроде деревенского клуба.
– А что, правду я говорил, говорил, погожий будет день, – глядь, ночью мороз и ударил.
Речь эта внезапно ворвалась в солодовню из только что открывшейся двери, и Генери Фрей, сбивая на ходу снег, налипший на башмаках, и топая, проследовал к сушильне. Солодовник, по-видимому, нисколько не был удивлен этим громогласным вторжением; здесь при встрече между своими часто обходились безо всяких словесных и прочих церемонных учтивостей, и сам он, пользуясь этой свободой нравов, не торопился вступать в разговор. Он подцепил кусок сыра, наткнув его на кончик ножа, как мясник натыкает на вертел мясо.
На Генери было темное полусуконное пальто, одетое поверх его длинной рабочей блузы, которая внизу, примерно на фут, выглядывала широкой белой каймой; для глаза, свыкшегося с такой манерой одеваться, это сочетание казалось вполне естественным и даже нарядным; во всяком случае, оно было очень удобно.
Мэтью Мун, Джозеф Пурграс и другие конюхи и возчики вошли следом за ним с раскачивающимися в руках фонарями, из чего можно было заключить, что они завернули сюда прямо из конюшен, где они с четырех часов утра возились с лошадьми.
– Ну как она, без управителя-то обходится? – поинтересовался солодовник.
Генери покачал головой с горькой улыбкой, от которой вся кожа у него на лбу собралась складками между бровями.
– Ох и наплачется она, и еще как наплачется, – сказал он. – Бенджи Пенниуэйс был, конечно, негодный управитель, нечестный человек, сущий Иуда Искариот. – Он умолк и покачал головой из стороны в сторону. – Вот уж не думал я, за мое старанье, никак не ждал.
Эти загадочные слова были восприняты всеми как горький вывод из каких-то мрачных рассуждений, которые Генери вел сам с собой, молча покачивая головой; на лице его тем временем сохранялось скорбное выражение отчаяния, словно Генери приберегал его для того, что он еще собирался сказать.
– Развалится все, и нам конец будет, или уж я ничего не понимаю в господских делах! – вырвалось у Марка Кларка.
– Упрямство девичье, вот оно что, ничьих советов слушать не желает. Упрямством да суетностью человек своих самых верных помощников со свету сживает. О господи! Как подумаю об этом, душа надрывается, ну прямо места себе целый день не нахожу.
– Это верно, Генери, я вижу, как ты изводишься, – глубокомысленно подтвердил Джозеф Пурграс, скривив губы в жалостливую усмешку.
– Не всякому мужчине такую Бог голову дал, даром что на ней чепец, – сказал Билли Смолбери, который только что ввалился, неся впереди себя свой единственный зуб. – И за словом в карман не лезет, и умом где надо пораскинет. Что, не правду я говорю?
– Оно, может, и правда, но без управителя… а ведь я-то заслужил это место! – возопил Генери и с видом непризнанного гения скорбно уставился на рабочую блузу Билли Смолбери, словно дразнившую его видением прекрасного, несбывшегося будущего. – Ну что ж, видно, такова судьба. Кому что на роду написано, а Святое Писание – не про нас; ты вот делаешь добро, а награды за свои добрые дела – тебе нет, и не жди, что тебя вознаградят по заслугам, нет, такая уж наша участь, обман один.
– Нет, нет, в этом я с тобой согласиться не могу, – запротестовал Марк Кларк. – Господь Бог – он справедливый хозяин.
– Оно значит, как говорится, по работе и плата, – поддержал Джозеф Пурграс.
В наступившем вслед за этим молчании Генери, словно в антракте, начал тушить фонари, в которых сейчас, при ярком дневном свете, отпала надобность даже и в солодовне с ее единственным крошечным оконцем.
– Дивлюсь я на нее, – промолвил солодовник, – и на кой это фермерше понадобились какие-то там клавикорды, клавесины, пиянины или как их там называют. Лидди говорит, что она себе этакую новую штуку завела.
– Пианину?
– Да. Похоже, стариковские дядюшкины вещи для нее нехороши. Говорят, все новое завела. И тяжелые кресла для солидных, а для молодых, кто потоньше, легкие, плетеные стулья; и часы большие, вроде как башенные, на камин ставить.
– А картин сколько, и все в богатых рамах! И скамьи мягкие, чтобы прилечь где, ежели кто выпьет сильно, – подхватил Марк Кларк, – все-то сплошь конским волосом набитые, и подушки на них с каждого бока, тоже из волоса.
– А еще зеркала для жеманниц да книжки блажные для бесстыжих.
Снаружи послышались громкие, скрипящие шаги; дверь приоткрылась, и кто-то, не входя, крикнул:
– Люди добрые, найдется у вас здесь место ягнят новорожденных притулить?
– Тащи, пастух, найдется, – ответили все хором.
Дверь распахнулась с такой силой, что ударилась о стену и вся сверху донизу содрогнулась от толчка.
На пороге появился Оук, от него так и валил пар; он был в своей рабочей блузе, подпоясанной кожаным ремнем, ноги его до самых лодыжек были обвязаны жгутами соломы для защиты от снега, четыре ягненка, перекинутые через плечи, висели на нем в самых неудобных позах, и весь он казался воплощением здоровья и силы; следом за ним важно выступал пес Джорджи, которого Габриэль успел перевезти из Норкомба.
– Добрый день, пастух Оук, ну как у вас, позвольте спросить, нынешний год ягненье-то идет? – осведомился Джозеф Пурграс.
– Хлопотно очень, – отвечал Оук. – Вот уж две недели, как я по два раза на дню до нитки насквозь промокаю то под снегом, то под дождем. А нынче ночью мы с Кэйни и вовсе глаз не сомкнули.
– А правду говорят, будто двойняшек много?
– Да, я бы сказал, чересчур. Такой в этом году с ягнением ералаш, – коли так и дальше пойдет, боюсь, что оно и к Благовещенью не кончится.
– А прошлый год, помнится, на мясопустное воскресенье уже все кончено было, – заметил Джозеф.
– Давай сюда остальных, Кэйни, – сказал Габриэль, – да беги к маткам. Я мигом приду.
Кэйни Болл, парнишка с веселой рожицей и вечно открытым маленьким, пухлым ртом, вошел, положил на пол двух ягнят и тут же исчез. Оук снял висевших на нем ягнят с неестественной для них высоты, завернул их в сено и положил возле печки.
– Вот жаль, нет у нас здесь шалаша для новорожденных, как был у меня в Норкомбе. А тащить таких, чуть живых, в дом – Божье наказание. Если бы не ваша солодовня, хозяин, ну право, не знал бы, куда деваться в такой мороз. А вы как сами-то себя нынче чувствуете, друг-солодовник?
– Да ничего, не жалуюсь, не болею, вот только разве что не молодею.
– Понятно.
– Да вы присаживайтесь, пастух, – предложил древний служитель солода. – Ну как там в нашем старом Норкомбе, что вы там видели, когда за своим псом ездили? Я бы и сам не прочь повидать родные края; да ведь из тех, кого я знал, верно, души живой не осталось.
– Пожалуй, что так. С тех пор там сильно все изменилось.
– А что, правду говорят, будто заведение Дикки Хилла, деревянный-то дом, где он сидром торговал, совсем снесли?
– Да, давным-давно, и коттедж Дика тоже, что повыше стоял.
– Вот оно как!
– А старую яблоню Томпкинса выкорчевали, ту самую, которая одна две бочки сидра давала.
– Выкорчевали? Ну что ты скажешь! Муторные времена пошли, ох, муторные!
– А помните тот старый колодец, что посреди площади стоял, из него теперь такую чугунную колонку с насосом сделали, а внизу этакий сток с желобом из цельного камня.
– Подумать! Как все меняется, и народ совсем другой пошел, чего только не наглядишься! Да и здесь у нас тоже. Вот они, стало быть, сейчас толковали, какие наша хозяйка-то чудеса творит.
– Что это вы про нее такое судачите? – круто повернувшись к компании, вспылил Оук.
– Да ведь это все наши папаши косточки ей перемывают, горда, дескать, да суетна не в меру. А я говорю, пусть себе вволю потешится! Ну что, в самом деле, с этаким-то личиком – да я бы на ее месте, эх, что говорить, – губки-то, что твои вишенки.
И галантный защитник, Марк Кларк, вытянув собственные губы, издал всем хорошо знакомый аппетитный звук.
– Вот что, Марк, – внушительно сказал Габриэль, – советую вам запомнить: никаких этих ваших балагурств, причмокиваний да сюсюканий я насчет мисс Эвердин не потерплю. Чтобы этого больше не было. Слышите?
– Да я со всем моим удовольствием, мне что, мое дело сторона, – кротко отвечал мистер Кларк.
– Так это вы, значит, здесь прохаживались на ее счет? – повернувшись к Джозефу Пурграсу, грозно спросил Оук.
– Нет, нет, я ни слова, я только всего и сказал: порадуемся, что такая, а не хуже, больше я ничего не говорил, – дрожащим голосом испуганно оправдывался Джозеф и весь даже покраснел от волненья. – А Мэтью только начал…
– Что вы такое говорили, Мэтью Мун? – спросил Оук.
– Я? Да я в жизни червяка не обижу, не то что кого, простого червяка дождевого, – тоже, видимо, струхнув, жалобно сказал Мэтью Мун.
– Однако кто-нибудь да говорил; ну, вот что, други мои. – И Габриэль, этот на редкость спокойный человек, удивительно мягкого и доброго нрава, внезапно с полной наглядностью дал понять, что в случае надобности он может действовать круто и решительно. – Видите этот кулак? – сказал он, и с этими словами он опустил свой кулак, чуть поменьше размером, чем добрый каравай хлеба, на самую середину небольшого стола, за которым сидел солодовник. – Всякий, кто посмеет хулить нашу хозяйку, как только я прослышу об этом… – (тут кулак оторвался от стола и снова опустился со стуком, – так Тор, прежде чем пустить в ход свой молот, примеривает, хорошо ли он бьет), – отведает его у меня, как пить дать, или провалиться мне на этом самом месте.
На всех лицах явно изобразилось, что они отнюдь не желают ему никуда проваливаться, а, напротив, очень жалеют, что побудили его прибегнуть к такой угрозе, и Марк Кларк даже крикнул:
– Правильно, правильно, вот и я то же говорю.
А пес Джорджи, слыша сердитый голос пастуха, поднял голову и, хоть он не все понимал по-английски, грозно заворчал.
– Да полно вам, пастух, зачем же так все близко к сердцу принимать, – промолвил Генери с кротостью и благоволением истинного христианина.
– А мы слышали, пастух, про вас все говорят, уж такой-то добрый да умный человек, – робко сказал Джозеф Пурграс, с опаской выглядывая из-за ложа солодовника, куда он незаметно убрался подальше от греха. – Великое это дело умным быть, – добавил он, сопровождая свои слова жестом, рисующим нечто возвышенное, умственное, а не грубо телесное. – Всякому лестно, правда ведь, добрые люди?
– Еще бы, – подхватил Мэтью Мун и с робким смешком повернулся к Габриэлю, словно желая показать свое дружелюбие.
– Кто это говорит, что я умный? – удивленно сказал Оук.
– Слухом земля полнится, – поспешно ответил Мэтью.
– А мы слышали еще, будто вы время по звездам можете сказать, не хуже чем мы по солнцу да по луне. Это правда, пастух?
– Да, могу немножко, – без всякого энтузиазма подтвердил Оук.
– А еще говорят, будто вы солнечные часы сделать можете и печатными буквами любое имя написать на фургоне либо на повозке, и не хуже, чем на заказной дощечке получается, со всякими загогулинами да разводами. Как это замечательно для вас, что вы такой умный. Вот Джозефу Пурграсу до вас случалось надписывать фургоны фермера Эвердина, так он, бывало, всякий раз путается, не помнит, куда Д, а куда Е повернуть? Ведь правда, Джозеф?
Джозеф ожесточенно затряс головой в подтверждение того, что он действительно никак не может этого запомнить.
– И вот так у него и получалось наоборот, а, Джозеф?
И Мэтью, вынув из-за пояса кнут, начертил ручкой на полу «Джэймс».
– А фермер Джеймс, как увидит свое имя задом наперед вывороченное, так ну браниться, сколько раз он, бывало, тебя ослом обзывал, а, Джозеф?
– Да, было дело, – грустно согласился Джозеф, – только разве моя в том вина, когда эти чертовы буквы никак не запомнятся, куда у них закорючки повернуты, вперед либо назад. А память у меня всегда слабая была.
– Для вас это должно быть особенно чувствительно, Джозеф, потому как на вас и без того такая напасть.
– Что ж, на то воля Провиденья, а я и за то Бога благодарю, что хуже со мной чего не стряслось. А что до нашего пастуха, так я прямо скажу, вот кого следовало хозяйке в управители-то назначить, вы для этого как раз подходящий человек.
– Не скрою, я и сам думал, не назначит ли она меня на это место, – чистосердечно признался Оук. – По правде сказать, я на это надеялся. Но с другой стороны, ежели мисс Эвердин хочется самой у себя управителем быть, это ее право; ее право и меня держать в пастухах. И только. – Оук тяжело вздохнул и, грустно уставившись в раскалившийся зольник, погрузился в какие-то невеселые размышления.
Живительный жар печки начал понемножку согревать почти безжизненных ягнят; они стали блеять и резво зашевелились на сене, по-видимому только сейчас ощутив факт своего появления на свет. Вскоре они уже все блеяли хором; тогда Оук вытащил из печки стоявшую с краю кружку с молоком, достал из кармана своей блузы маленький чайник, налил в него молока и, отделив от этих беспомощных созданий тех, кого не предполагалось вернуть маткам, стал учить их пить из носика, что они тут же с необычайным проворством усвоили.
– Я слышал, будто она даже не позволяет вам брать себе шкуры павших ягнят, – возвращаясь к прежнему разговору, заметил Джозеф Пурграс, следивший за всеми операциями Оука со свойственным ему меланхолическим видом.
– Я их не беру, – коротко ответил Габриэль.
– Ну это уж несправедливо, нет, вовсе несправедливо с вами здесь обходятся, – продолжал Джозеф, надеясь залучить Оука на свою сторону, чтобы и он тоже присоединился к его сетованиям. – Должно быть, она что-то против вас имеет.
– Да нет! – поспешно оборвал его Габриэль и, не удержавшись, вздохнул, конечно не оттого, что ему не доставались шкуры ягнят.
Тут, прежде чем его собеседник успел что-либо возразить, в дверях выросла какая-то тень, и Болдвуд, дружески и покровительственно кивая на ходу направо и налево, вошел в солодовню.
– А, Оук, я так и думал, что вы здесь, – сказал он. – Мне только что встретилась почта, минут десять тому назад, и почтарь сунул мне в руку письмо, а я распечатал его, не поглядев на адрес. По-видимому, это вам. Простите меня, пожалуйста, что так вышло.
– Ничего, мистер Болдвуд, не извольте беспокоиться, – с готовностью отвечал Габриэль. У него на всем свете не было никого, с кем бы он вел переписку, и неоткуда было получить такого письма, которого нельзя было бы показать всему приходу.
Он отошел в сторону и стал читать письмо, написанное незнакомым почерком.
Дорогой друг, не знаю Вашего имени, но надеюсь, что до Вас дойдут эти строки, в которых я премного благодарю Вас за Вашу доброту ко мне в тот вечер, когда я, не подумавши, сбежала из Уэзербери. Возвращаю Вам также деньги, которые задолжала Вам, и прошу простить, что не могу принять их от Вас в дар. Все кончилось счастливо, и я рада, что могу Вам открыться, что я выхожу замуж за молодого человека, который за мной ухаживал; это сержант Трой из драгунского полка, который сейчас квартирует в этом городе. Я знаю, что ему было бы неприятно, если бы я от кого-нибудь приняла что-либо иначе как в долг, потому как это очень достойный и высокопорядочный человек, и даже могу Вам сказать, человек благородного происхождения.

