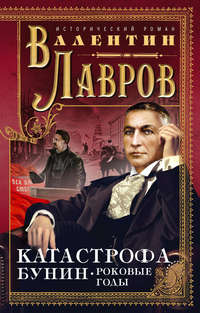
Катастрофа. Бунин. Роковые годы
Бунин крикнул:
– Вера, иди сюда! Смотри, какое чудо…
Сам он любовно и самозабвенно глядел на большие листы бумаги, исписанные размашистым, округлым, неудобочитаемым почерком своего кумира.
Накормив ужином Грузинского, они уселись за столом. Алексей Евгеньевич ровным голосом читал неизвестного Толстого.
Бунин зачарованно слушал, сладостно внимал каждому слову. И как всегда после чтения толстовских произведений, он испытывал душевное просветление, умиротворение духа.
* * *Потом они пили чай, быстро вскипевший на раскаленной «буржуйке».
Грузинский все тем же ровным, тихим голосом, каким читал рукописи «Войны и мира», рассказывал:
– Сейчас в трамвае еду, с солдатом разговорился. В ногу тот ранен, в колене не сгибается. Жалко мне его, сердечного. Была у меня луковица, отдал ему. «Эх, – говорит, – барин, насиделся я без дела, прожился весь. В деревне – кому такой нужен, клосный! Пошел в Совет депутатов. Говорю: как я есть защитник отечества и тяжело раненый, дайте мне какое-никакое место. Для пропитания. Отвечают: места нету! А для пропитания и обмундирования вот тебе два ордера на право обыска, можешь отлично поживиться. Я их послал куда подале, я честный человек».
– К сожалению, такими честными оказались далеко не все, – печально протянул Бунин. – Особенно изолгалась интеллигенция.
Грузинский согласно закивал:
– А что еще им остается, этим «прогрессивным деятелям» – Луначарскому, Клестову, Гржебину? Ведь они – большевики, всегда были за революцию, готовили ее. Сказали А, говорят Б.
Бунин сжал кулаки, разволновался. Он поднялся, стал расхаживать по комнате. Повернулся к гостю:
– Да что там большевики! Сам беспартийный «серафический» поэт (так называл его Гумилев) Блок прозаически обосновал зверства большевиков и заодно мужицкую жестокость. Читали январский номер журнала «Наш путь»? – Бунин подошел к письменному столу, долго, с ожесточением рылся в ящиках и наконец извлек журнал. – Вот оно самое: «Почему дырявят древний собор? Потому, что сто лет здесь ожиревший поп, икая, брал взятки и торговал водкой. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему – мошной, а дураку – образованностью».
Бунин швырнул журнальчик в «буржуйку». Тот моментально вспыхнул, превратился в пепел. Бунин продолжал:
– Неужели Блок ослеп? Неужели теперь он не покраснел за большевистский мир в Брест-Литовске? Неужто не видит, как «отцы революции», боровшиеся под знаменами «всеобщего равенства», ввергли народ в нищету, а сами заняли роскошные дворцы, катаются с любовницами на авто!
– Наверное, – согласно тряхнул головой Грузинский, – тот же Луначарский не «буржуйкой» отапливается.
– Рыба тухнет с головы!
– Иван Алексеевич, а вы слыхали, что Ленин и его правительство собираются переезжать из Питера в Москву?
– Слух упорно ходит. Что ж, то разрушали из пушек древний Кремль, а теперь будут царские палаты занимать. Кто был ничем, тот стал уж всем!
…Это была их последняя встреча. Ровесник Юлия Бунина, Грузинский умрет в Москве через двенадцать лет, в январе тридцатого года. Ему будет семьдесят один год.
Бунин об этой смерти даже не узнает: слишком далеко друг от друга раскидает их жизнь.
Кремлевские коридоры
1– Придет марток – не удержишь порток! – ворчал Бунин, собираясь выходить на улицу.
Солнечные дни, стоявшие на минувшей неделе, сменились слякотью, грязью, сырым порывистым ветром.
– Калоши надень! – наставляла Вера.
– Если бы не к Ивану Фадееву идти, то и носа на двор не высунул.
Твердо решив покинуть Москву, Бунин продолжал распродавать свою большую библиотеку.
– Пусть достанется книжникам! А то ведь «революционный пролетариат» костер сложит! – рассуждал Бунин. И он отправился к полюбившемуся ему молодому, ширококостному и длиннорукому букинисту Фадееву, державшему свою лавочку на Лубянке. – Пусть все вывозит!
Где-то в полдень Бунин миновал университет на Моховой и приближался к Тверской. Вдруг, шагах в полусотне впереди, беспрерывно нажимая на клаксоны, от гостиницы «Национальной» отъехало несколько автомобилей. Грозно ощетинясь штыками, на подножках стояли красногвардейцы.
Автомобили, набирая скорость, рванули к Троицким воротам Кремля.
– Правители поехали! – с восхищением произнес прыщавый парень в длиннополом черном пальто и с рваным портфелем под мышкой. – Сам Ленин, говорят, у нас в Москве теперь жить будет. Кр-расота!
* * *«Жены всех этих с<укиных> с<ынов>, засевших в Кремле, разговаривают теперь по разным прямым проводам совершенно как по домашним телефонам». Ив. Бунин. «Окаянные дни».
* * *Новые насельники Кремля, оказавшись за кружевом древних стен, сразу же почувствовали себя непринужденно, словно родились не в разных местечковых поселениях, а великими князьями.
Впрочем, обратим взор к любопытным событиям, разыгравшимся несколькими днями раньше в Петрограде.
2Девятого марта 1918 года в Смольном стояла небывалая суматоха. Наружная охрана была значительно усилена. Вовнутрь никого, кроме правительственных чиновников, не допускали. Ходоки, просители, жалобщики, прибывшие с разных концов России, бесплодно пытались добиться начальства.
А начальству было не до пустяков. В громадные ящики упаковывались бумаги, секретные документы, пишущие машинки, бутылки с чернилами и коробки с перьями.
Сотрудницы и сотрудники сбились с ног. В кабинете под номером 75, где размещался Бонч-Бруевич, было шумно, многолюдно, накурено и надышано. Управделами, вытирая пот с сального небритого лица, охрипшим голосом отвечал на вопросы сотрудников, кричал приказы в телефонную трубку, то и дело убегал по вызову Ленина. Суматоха была такой, будто враг подходит к городу.
В кабинет медленно вполз грузный, вечно потевший и неприятно пахнувший нарком юстиции Штернберг. Возмущенным голосом начал кричать:
– Что за бардак! Ящиков для бумаг дали всего сорок штук, половина из них разваливается…
– Претензии по поводу ящиков не ко мне, к Дзержинскому, – нервно дернул головой Бонч-Бруевич. – А вот он и сам.
– Феликс Эдмундович, ваши заключенные плохо ящики сколачивают, разваливаются! – визжит Штернберг.
Дзержинский, сухощавый, подтянутый, с усмешкой роняет:
– Конечно, если обдирать стены и набивать ящики бронзовыми канделябрами, то они эти пуды не выдержат.
– Вы лучше расстреляйте с десяток саботажников, тогда остальные работать будут лучше! – брызжет слюной Штернберг. – Безобразие.
Дзержинский с ненавистью смотрит на обрюзгшее лицо наркомюста и сквозь зубы цедит:
– Замолчите! И все казенное имущество верните. Мои люди проверят, что вы тащите из Смольного.
Бонч-Бруевич, как опытный рефери в жарком боксерском поединке, бросается между соперниками:
– Тихо, тихо, товарищи! Нас ведь слышат… Я сейчас пришлю двух плотников, они ящики сколотят.
Обратился к Дзержинскому:
– Вы за грузовиком? Я уже распорядился. Будет с минуты на минуту.
Обменявшись взглядами, полными ненависти, наркомы покидают кабинет. Теперь влетает Михаил – брат Бонч-Бруевича.
– Вова, – кричит он с порога. – Выручай! У нас отбирают два купе.
– Ты кто? Военрук Высшего военсовета! Возьми солдат и отбей купе. Неужели учить надо?
Тот радостно хлопает себя по лбу и исчезает – воевать купе.
В кабинет неслышно входит Зиновьев. Он чувствует себя единственным хозяином Питера. Понаблюдав за суетой, дав «ценные» указания Бонч-Бруевичу, вытянувшемуся перед вождем, так же тихо покидает кабинет.
Зиновьев очень рад этой эвакуации. Он первым сказал Ильичу:
– Столицу оставлять в Питере небезопасно. С военной точки зрения. Немецкий флот может появиться в ближайших водах Балтийского моря. Да и заговорщиков много развелось здесь…
– Хотите от нас избавиться? – блеснул хитрым глазом Ильич. – Знаю вас! И потом, что скажут люди? Что большевистское правительство дезертирует из революционного Петрограда? Ведь Смольный стал синонимом советской власти.
Вскочив из-за стола, он в волнении забегал по кабинету. Он и сам вынашивал мысль о переезде, но, не приняв окончательного решения, мнение это высказывать остерегался.
– Пусть Троцкий зайдет ко мне, – распорядился Ленин.
Тот, словно нечистый, тут же вырос в проеме.
– Лев Давидович, как вы относитесь к мысли, чтобы мы, правительство, переехали в Москву?
Троцкий начал лихорадочно щипать бородку:
– Сложный вопрос! Поймут ли нас рабочие массы, а?
– Вот и я говорю! – согласился Ленин. – Не поймут.
Он опять нервно заходил по кабинету. Вдруг остановился возле Троцкого, начал крутить пуговицу на его френче:
– А если немцы одним скачком возьмут Питер? Более того, останься мы в Петрограде, мы увеличиваем военную опасность для него, как бы провоцируя немцев захватить Петроград? А?
Ленин с интересом вперился взглядом в Троцкого.
– Надо не бегать, – твердо сказал тот, – надо защищать Питер. Ведь колыбель революции – Смольный.
– Какая, к чертовой матери, колыбель! – вдруг вспылил Ленин. – Привыкли блядословить. «Колыбель, колыбель…» Что вы калякаете о символическом значении Смольного? Смольный потому Смольный, что мы в нем. Переберемся в Кремль, и вся ваша бутафорская символика перейдет к нему. Так говорю? – Он повернулся к Зиновьеву.
– Вы, Владимир Ильич, как всегда, правы.
– То-то! – торжествующе произнес Ильич. Он почувствовал облегчение оттого, что наконец принял решение.
Вызвав Михаила Бонч-Бруевича, Ленин распорядился:
– Напишите рапорт о ваших соображениях по поводу переноса столицы в Москву. С военной точки зрения.
– Слушаю-с, Владимир Ильич.
Позже братья Бруевичи приписали себе инициативу переезда в Москву.
* * *Всю организацию этого сложного дела Ленин возложил на Владимира Бонч-Бруевича. Тот, по его собственному хвастливому уверению, «целой системой мер совершенно парализовал террористические замыслы эсеров». У страха глаза велики!
Одна из мер – он отправил в двух царских поездах членов ВЦИКа. Сделано это было с намеренной шумихой. Во всех вагонах разместили эсеров – «своих взрывать не будут!». В. Бонч-Бруевич вспоминал:
«Поездам была придана военная охрана, а в самую последнюю минуту мы подкатили на автомобиле Председателя ВЦИКа, Я. М. Свердлова, вошли с ним в первый поезд, прошли по всему поезду, как бы знакомясь с расположением в нем всех депутатов. Вся публика, толпившаяся на вокзале, хорошо видела Свердлова, а когда дошли до последнего вагона, нарочито не освещенного, я предложил ему слезть в обратную сторону и заранее намеченным путем перевел его, на всякий случай, во второй поезд, так что все были уверены, что он уехал в первом. Я следил за проходом этих поездов с членами ВЦИКа по телеграфу, получая донесения с каждой узловой станции.
Самое главное дело приближалось, и мне надо было совершенно сбить с толку тех, кто мог бы любопытствовать об отъезде правительства.
Девятого марта я отдал распоряжение приготовить два экстренных пассажирских поезда на Николаевском вокзале с тем, чтобы они были совершенно готовы к отбытию 10 марта. В этих поездах я хотел отправить работников комиссариатов, все имущество управления делами Совнаркома, всех служащих управления и все то необходимое, что нужно было в первые дни жизни правительства в Москве.
Эти поезда я решил грузить открыто, не обращая ни на что внимания. Я ясно сознавал, что шила в мешке не утаишь и что такую громаду, как управление делами Совнаркома и комиссариаты, тайно не перевезешь, мне лишь надо было отвлечь внимание от „Цветочной площадки“. По городу, да и в Смольном, стали говорить, что правительство уезжает с Николаевского вокзала. В Смольный, в комнаты управления делами, я совершенно закрыл доступ, и там шла лихорадочная упаковка всего нашего имущества. На Николаевском вокзале шла погрузка двух поездов из некоторых комиссариатов, а для управления делами были оставлены вагоны».
3Никогда никакой российский самодержец не принимал при своих переездах столь исключительных мер безопасности. Вот парадокс: власть, которая называла себя «народной», всего больше боялась самого народа, всячески от него оберегалась сама и оберегала в тайне свою жизнь. И на это были веские причины.
Партийные верхи, воспевая равенство и братство, обещая народу «светлое будущее», которое, как горизонт, по мере приближения к нему все отодвигается, сами уже купались во всевозможной роскоши. В их распоряжении были великолепные дачи и квартиры, автомобили и секретарши, лучшие товары по льготным ценам. И все эти блага доставались не самым талантливым и необходимым для государства людям, а самым бесполезным и даже вредным для его существования.
Вступление в партию означало приобщение к кругу избранных. Вчерашний изгой как бы становился патрицием. Не зря же партийные собрания были «закрытыми» – тайны только для своих!
Как легенды, ходят рассказы, что в наиболее трудных случаях комиссары (парторги) кричали:
– Большевики, за мной!
И большевики «грудью поднимались на врага»!
Если так и было, то как им не подниматься, когда именно они являлись новыми хозяевами, они шли защищать свое кровное, личное.
Но забывают при этом, что рядовые беспартийные – и на фронте, и в тылу – куда чаще клали голову за родину. И Россию любили нисколько не меньше, хотя не имели никаких надежд в силу своей беспартийности достичь сколько-нибудь высоких ступеней на социальной лестнице.
4Итак, в половине десятого вечера 10 марта, попив на дорогу чайку с бутербродами и эклерами, подкрепившись шартрезом, Ленин со своей свитой покидал Смольный институт.
Ильич окинул прощальным взглядом резиденцию. С ней было связано немало приятных воспоминаний. Почесав задумчиво подбородок, он произнес, обращаясь к стоявшему рядом Троцкому:
– Да-с, петроградский период закончен. Что-то скажет нам московский?
Троцкий почтительно изогнулся:
– С вами, Владимир Ильич, революция победит везде…
Дзержинский не удержался, фыркнул:
– Лесть грубая, но приятная!
Ленин и Крупская расхохотались.
Ильич пожал на прощание влажную ладонь Троцкого. Тот на некоторое время оставался в Питере в качестве председателя городского военно-революционного комитета.
В авто, кроме Ильича, забрались Крупская, сестра вождя Мария Ильинична, Бонч-Бруевич и его жена Вера Михайловна. На подножки слева и справа вспрыгнули вооруженные охранники. Еще один автомобиль, набитый вооруженными людьми в черных кожанках, следовал сзади.
Освещая редких, шарахавшихся в стороны прохожих и военные патрули, расставленные по всему маршруту следования, авто быстро подкатили к Московским воротам. Проехали еще квартал и, свернув на Заставскую улицу, вскоре влетели на платформу Цветочная площадка.
Затормозили у последнего вагона железнодорожного поезда. Охрана ловко на ходу соскочила с автомобилей, оцепив проход к правительственному поезду.
Специальная команда освещала карманными фонариками дорогу, Бонч-Бруевич бережно поддерживал Ленина под локоть. Тот, не привыкший к быстрой ходьбе, тяжело дышал, постоянно спотыкался. Он то и дело нервно сдергивал с головы черную каракулевую шапку и вытирал лысину.
– Владимир Ильич, – забеспокоилась Крупская, – не снимай шапку! Простудишься. В два счета!
Ленин ответом не удостаивал. У Крупской были выпуклые глаза и прозвище Минога.
Наконец забравшись в салон-вагон, Бонч-Бруевич приказал начальнику станции:
– Поезд немедленно отправлять!
Затемненные вагоны, лязгнув буферами, тихо покатили.
Усиленная охрана разместилась по всему поезду. Специальный комиссар с бойцами сели в тамбуре паровоза – для контроля за машинистом.
– Что же, мы так и будем находиться в этой кромешной тьме? – заволновался Ленин, с детства боявшийся неосвещенных помещений.
– Как только окажемся на главных путях, Владимир Ильич, свет тут же зажжем! – успокоил Бонч-Бруевич. – Немножечко потерпите. А пока позвольте свечечку поставить…
Усиливая ход, поезд пошел на Любань. И вот ярко вспыхнуло электричество, осветив зеркала, хрустальные люстры, мягкие кожаные диваны, ковры на полу, буфет с закусками и бутылками. Окна были плотно зашторены.
Лакеи уставили столы холодными закусками. Начался ужин. Ленин, расставшийся со страхом, шутил, смеялся, то и дело подливал вино Дзержинскому и Крупской:
– Коллекционное, из подвалов Абрау-Дюрсо!
Дзержинский вежливо отказывался, Крупская пила и приговаривала:
– Пьем да посуду бьем, а кому не мило, того в рыло!
Бонч-Бруевич хохотал. С каменным лицом молча жевал Сталин. Дзержинский с трудом удерживал презрительную улыбку. Двое последних терпеть не могли жену вождя.
Ленин, закончив ужин, сел играть с Каменевым в шахматы.
– Лев Борисович, ты ловко разыграл отказанный ферзевый гамбит! – с досадой поморщился Ильич.
– Капабланка в твоей позиции, Ильич, сдается! – нахально улыбнулся Каменев.
Ленин задумчиво, по привычке ковыряя пальцем лысину, слушал бахвальство старого партийного друга и напряженно считал варианты.
Дзержинский углубился в какую-то старинную книгу в полукожаном переплете.
– Что читаете, Феликс Эдмундович? – заинтересовалась Крупская.
– Выписал из библиотеки «Путеводитель по Москве и ее окрестностям». Вышел в 1872 году.
– Какая полувековая древность! Что там может быть полезного?
– Интересные очерки об истории города, о традициях и обычаях.
– Эту «большую деревню» следует разрушить и возвести город новый, большевистский, – решительно произнесла Крупская. – Нам это в два счета!
5К судьбе Дзержинского более всего подходила русская поговорка: «Коготок увяз, всей птичке пропасть». Сын мелкого шляхтича, он еще в самом нежном возрасте почувствовал не по-детски страстное влечение к Богу, желание служить Ему. Монастырская келья не привлекала воображение ребенка. Нескромные мысли порой приходили в голову, и маленький Феликс не отгонял – лелеял их. Он хотел стать неким мессией, который сумеет объяснить людям, что жить следует по справедливости, никого не обижать, кормить голодных, согревать душевным теплом убогих и несчастных. То-то бы наступило на земле Царство Небесное, и прославилось имя его, гимназиста из Вильны! Он очень хотел стать знаменитым, и некий тайный голос убеждал его, что славы он достигнет.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
