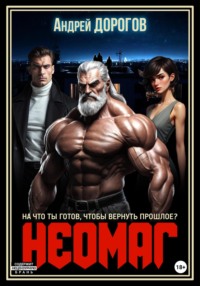
Неомаг
Я подхватил тёплый комочек на руки. Чмокнул в сморщенное заплаканное личико.
– Ну, что ты, малышка, ехать не хочешь? А там тепло, ласковое море, свежий воздух.
Мы долго подгадывали время, чтобы всей семьёй отправиться отдыхать. Но всё не складывалось: то у отца процесс, то тесть занят. В середине августа всё, наконец, собрались. И вот теперь мы отправляемся к Чёрному морю, где отец Ольги снял на две недели шикарную дачу, находящуюся в двух шагах от моря. Долго решали, как ехать, пока отец не сказал:
– Ша! Едем на моей «Тойоте». Десять мест, все удобства, кондиционер – красота, в общем.
Тесть согласился, но с условием, что вначале повёдет он. Батя заскрипел, но согласился.
Споро погрузили вещи. И вот едем. Отцы семейств говорят о чём-то своём – адвокатском. Тесть – профессор, юрист и по совместительству бывший мент, ожесточённо спорил с отцом. Они обсуждали последнее дело, которое успешно завершил мой отец.
Женщины, кроме семнадцатилетней Кати, заняты полугодовалой Настюхой. Ольга с моеё матерь и тёщей весело щебетали, передавая дочку друг другу. Трясли перед ней игрушками и сюсюкали. Девочка, наконец, перестала плакать, но выглядела недовольной.
Я пристроился рядом с Катенком (так свояченицу звали в семье). Та сидела, нахохлившись, упёршись лбом в тонированное окно. Толкнул в плечо:
– Ты чё куксишься? На море не хочешь? Там сейчас самая благодать, парней молодых много.
Катя неприязненно взглянула на меня, отвернулась. Она не любила меня, я усмехнулся – пусть покривляется. Пользуясь тем, что она смотрит в окно, скосил на неё глаза. Голые круглые коленки так и притягивали мой взгляд. Природа не обделила Катю внешностью. Высокий рост, тонкая талия и пышные формы должны были сделать её в недалёком будущем неотразимой.
– Голова болит, – вдруг отозвалась она.
– Хочешь, таблетку дам?
– Да пошёл ты, – тихо, чтобы не услышали мать с сестрой, сказала она.
Я вздохнул, быстро скосил глаза на просвечивающую под майкой молочно-белую грудь с розовыми сосками: тьфу ты, чёрт, и отвернулся.
Откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза. Ночь выдалась бессонной. Настюшка капризничала, плакала во сне и металась по кроватке. То ли зубки резались, то ли удушливая жара пополам со смогом так действовали на неё, но выспаться нам не удалось. И сейчас я потихоньку засыпал, убаюкиваемый мерным шумом машины, идущей на мягкой, глотающей малейшие неровности, подвеске.
Машина плавно вошла в поворот, меня, полусонного, качнуло в сторону. Голова легла на что-то мягкое. Щекой я почувствовал нежную бархатистость кожи Катиного плеча. Она на мгновение напряглось, закаменев, а я, окончательно провалившись в темноту сна, напоследок ощутил, как расслабились её мышцы, и почувствовал мягкое прикосновение к щеке…
– Максим, тебе плохо?
Он помотал головой и понял: Иван давно молчит, а он со словами выплёскивает из себя застарелую боль.
– В той аварии в живых остался ты один, сильно помятый, но живой.
Максим открыл глаза. Иван запнулся, увидев на его глазах слёзы. Максим жадно затянулся раз, другой. В голове зашумело.
– Да, помятый, – он зло усмехнулся, – компрессионный переломом позвоночника, тазовых костей и ног, сильный ушиб правой половины головы, а больше ни царапины, представляешь, ни одной царапины. Ты понимаешь, что это такое, быть живым, когда все, кого любишь, умерли? Понимаешь? – он почти кричал, глядя в спокойные серые глаза.
Иван не отвёл глаз. В их глубине, за изрядно подтаявшими за прошедшую ночь льдинками, плескалась неподдельная боль и сочувствие.
– Если бы я не понимал, меня бы здесь не было, – он прикурил новую сигарету от предыдущей.
– Проснулся я уже в больнице. Проснулся от боли. Болело всё. Голова, спина, ноги. От меня долго скрывали, что все погибли. – Последняя фраза вышла хрипло, словно ворон каркнул.
Максим бросил в пепельницу погасшую папиросу, из пачки выцарапал ещё одну, чиркнул спичками. Тяжёлый дым туманил мозги, позволяя прийти в себя.
Затянувшись несколько раз, он совсем успокоился. Десять лет выучки не прошли даром. Продолжил он рассказ, уже полностью пришедшим в себя. Скучным тоном, роняя слова в пространство между ними.
Пётр Свержин.
Десять лет назад…
Я долго не мог поверить, что в той злополучной аварии выжил я один. Что все: Оленька с Настюшей, родители, тесть с тёщей, Катенок – погибли. Долго не верил, думал: дурацкий розыгрыш, затуманенное болью и лекарствами сознание с трудом воспринимало действительность. А когда понял… Три попытки, неудачные, суицида. Удержали. Да и о каком самоубийстве может идти речь, когда тело до половины сковано жёстким корсетом гипса.
Я выжил и выдержал этот удар и всё, что последовали за ним. Спасибо, папа.
Полгода в лежачем состоянии. Потом мучительная терапия. Изматывающие упражнения, чтобы не остаться наполовину овощем. Врачи говорили чудо. Нет, не чудо. Спасибо, мама.
Бывали моменты, когда хотелось кричать от боли, раздирающей нижнюю часть тела. Бывало, не было сил, чтобы плакать от отчаянья. Но я выкарабкался. Деньги были. Спасибо родителям.
Все оказались застрахованы, включая жену и дочку. Когда они успели, не знаю. Моя семья и так была не бедной, а после выхода из больницы, я был богат. Квартиры родителей и тестя оказались моими, досталась мне и ещё какая-то недвижимость. Плюс акции и ценные бумаги. Передача наследства прошла не без шероховатостей, но у отца даже после смерти оставались друзей. Адвокаты и люди со связями. Я был богат, но, Боже мой, как я был беден.
Я вышел из больницы похудевшим на 15 кг. Еле волоча ноги, приехал к родителям. Поехать домой я не мог: там всё напоминало о жене и дочке. Разбросанная в лихорадочной спешке одежда, бутылочки, баночки, нераспечатанная пачка подгузников. Нет, не мог.
По выходу из больницы я всё время находился в квартире родителей, посещал только физиопроцедуры, да делал редкие вылазки за продуктами. Находиться в ней было не так мучительно, как в нашей с Ольгой квартире. На телефонные звонки не отвечал. Дверь никому не открывал, за исключение соседки, которая была дружна с моей матерью, соседка заходила пару раз. Я был ослаблен физически и морально. Большую часть времени я спал. Когда не спалось, щёлкал пультом телевизора или курил, бездумно глядя в тёмный экран.
Вскоре появились новые проблемы, хотя, казалось, куда больше?
Началось всё со странного шума в голове. Появляться он начал под вечер, когда накатывала усталость. Дальше – хуже. Примерно через месяц голова ощутимо шумела уже в середине дня. Ещё через две недели, шум начинался с утра, примерно через час после пробуждения. Поначалу я не испугался, списал на остаточные последствия травмы. Когда шум усилился – сходил к врачу. Милейший старикан, Фёдор Михайлович, друг отца, светил в глаза фонариком, мял голову, мерил давление. В итоге прописал таблетки. После них, шум на какое-то время пропал, но потом пришёл с новой силой и принёс с собой боль. Постепенно он стал напоминать неразборчивый шёпот. Я стал плохо спать. Повторный визит к Фёдору Михайловичу результатов не дал. Он выписал мне направление на томограмму и договорился, чтобы меня приняли немедленно. Томограмма показала, что с моей головой, в физическом плане всё хорошо, как сказал врач:
– На удивление, молодой человек, но никаких нарушений не наблюдается.
– На удивление? – переспросил я.
– Конечно, после такой-то травмы, – не смутившись, ответил он.
Между тем боль нарастала. Через неделю я проснулся оттого, что услышал в голове что-то тихо бубнящий голос. Он принадлежал женщине и неразборчиво бубнил о том, что её все достали: муж – козёл, дети – сволочи. И как ей хочется, чтобы её хоть кто-нибудь трахнул. Оттрахал до дрожи в ногах и сладкой боли внизу живота.
Я в ужасе скатился с кровати, зажимая уши руками. Голос креп, становился сильнее, и я с удивлением узнал в нём голос соседки. Красивой моложавой женщины, со стройными ногами и чёрными, словно у цыганки, волосами. Всегда хорошо одевающейся и пахнущей терпкими духами. Она была приветлива и улыбчива. Оксана Вадимовна, узнав о трагедии, первая пришла навестить меня в больнице. И сейчас иногда нет, да и заходила.
Голос звучал, казалось, прямо в голове. Он изливал на меня всю потаённую боль, страх и неудовлетворённость жизнью. Я чувствовал её голос каждой клеточкой тела, он отзывался болью в сломанных ногах, дребезжал в паху и тазовых костях и через повреждённый позвоночник бил в голову, в то место, которое приняло на себя удар.
Ощущение было невыносимым, я чувствовал себя колоколом, в который колотит безумный пономарь. Неожиданно пришло понимание: я сошёл с ума. И тут я закричал. Я кричал, и кричал, и кричал и кричал. Криком, пытаясь выплеснуть из себя свою и чужую боль.
Крик не принёс мне облегчения, только голос сменил тональность.
– Бедный мальчик, ему так досталось, надо спуститься, утешить его, – гремело в голове, – он такой симпатичный, милый и… – меня обдало волной желания, внизу живота начали разгораться жаркие угли. Я ловил воздух широко открытым, в один миг пересохшим ртом.
В дверь раздался звонок. Я не выдержал и рванул на кухню, скользя по паркету. Перед холодильником не удержался и упал набок. Дверца с шумом распахнулась. На пол посыпались флаконы и упаковки с лекарством, оставшиеся от родителей.
Рукой нащупал полупустую бутылку «Столичной», дрожащие пальцы никак не могли скрутить пробку. Словно хлыстом ударил в спину звонок, и пришедшая вслед за ним волна чужих мыслей. Всё это время, я, не переставая, орал в тишину квартиры.
– Да что с ним случилась? Кричит как! Напился, что ли, или девку привёл? И это после того, как всю семью схоронил, а жаль, хороший мальчик, аппетитный, худой только. Надо его утешить, или Аристарху позвонить… – этот бессвязный поток мыслей перемежался пронзающими меня эмоциями, свитыми в одну массу: жалость, раздражение, похоть и страх.
– Да заткнись, дура, перестань думать, переста-а-а-нь, – не в силах сдержаться, я орал в сторону двери, захлёбываясь слезами.
Пробка поддалась, и я опрокинул в себя водку. Обжигающая волна хлынула, казалось, не в желудок, а прямо в голову, смывая, заглушая чужое присутствие. Я не останавливался, пока не влил в себя всё, что было в бутылке. Организм, ослабленный травмами и отравленный лекарствами, благодарно принял в себя дозу. Я вырубился.
Пробуждение было нелёгким. Я лежал в луже воды, натёкшей из открытого холодильника. Болела голова. Болело тело – занемевшее и замёрзшее. Слава Богу, голос я больше не слышал. Перво-наперво я напился. Пил прямо из крана, жадно глотая холодную воду. Напившись, кое-как доплёлся до ванной.
Когда ванна наполнилась, с наслаждением опустился в воду. Она размягчила боль, засевшую в теле. Я лежал в восхитительно горячей воде и наслаждался тишиной. Мысли лениво ворочались в голове. Что это было? Последствия удара, или я потихоньку схожу с ума. Пьяная дымка в голове начала рассеиваться. Я с наслаждением вытянулся в воде, благо размеры ванны позволяли.
– Вот, сука, падла! Двояк влепила, проститутка, бл…, кошка драная! – неожиданно раздался голос.
Я вздрогнул, пятки скользнули по дну ванны, и я с головой ушёл под воду. Вынырнул, отплёвываясь – пахнущая хлоркой вода раздирала горло:
– Да что такое!
– Прощай, бл…, сраный скоростник, прощай, бл…, поездка на море. Здравствуйте – пиз…. Убью, гадину. – Голос ещё бубнил какие-то ругательства, разбавленные стенаниями о некупленных вещах.
Постепенно он затих, а где-то хлопнула дверь. Меня прошиб холодный пот. Я сидел и дрожал в ванной. Голос я узнал. Соседский мальчишка, парнишка лет двенадцати, неплохой на вид паренёк. Вежливый, улыбчивый.
Похоже, кошмар только начинался или у меня от всего случившегося кукушка спрыгнула. Как ошпаренный я выскочил из ванной, наскоро обтёршись полотенцем, бросился в спальню. Чутко вслушался в тишину квартиры. Тихо. Вроде кончилось. Торопливо начал одеваться. И тут со всех сторон на меня обрушились голоса. Не выдержав напора, я упал на колени перед кроватью, уткнувшись головой в неубранное бельё. До боли закусил губу.
Голоса переплетались, то сливаясь в один клубок, то разделяясь. Это было невыносимо. Голоса бубнили в моей голове, перебивая друг друга, так что общий смысл их речей практически не угадывался, лишь отдельные слова. В основном ругательства и проклятия.
Я бросился в прихожую. Без шапки выскочил на февральский мороз. Улица обрушила на меня голоса с новой силой. Они давили, пригибали меня к земле. Как добрался до магазина, не запомнил. Пришёл в себя, только когда, торопливо сорвав с бутылки пробку, влил в горло 150 водки.
Жидким огнём она прокатилась по желудку, волной отдалась в голову и… голоса начали стихать. Пропали они, только когда я допил бутылку. Изрядно опьяневший, я добрался до квартиры. Обнаружил, что забыл запереть дверь. Кое-как закрыл за собой дверь и свалился прямо у порога.
Глава 4.
Максим открыл глаза. От долгого разговора в горле пересохло. Он глотнул остывшего кофе. Покатал жидкость во рту, подошёл и сплюнул в раковину. Нацедив из крана воды, махнул стакан, не обращая внимания на затхлый, отдающий рыбой и хлоркой вкус.
Посмотрел на стоящего у окна Ивана. Тот курил, стеклянный стакан был полон до фильтра скуренными сигаретами. Густые клубы табачного дыма не хотели покидать кухню.
Напившись, Максим умылся. Помолчал, непослушными пальцами подцепил пачку, достал последнюю полурассыпавшуюся папиросу, прикурил. Сел на табуретку, втягивал в себя кислый дым. Докурив, забил бычок и продолжил.
– Потребовался месяц экспериментов, чтобы вычислить оптимальную дозу спиртного. Такую, чтобы не валяться, напившимся до беспамятства, но чтобы голоса отступали. Триста грамм водки, и я мог быть более или менее адекватным. Ни вино, ни коньяк не действовали, пиво тоже. Только водка. Я пил каждый Божий день, иначе жизнь была невыносимой. Обычно я выпивал пол-литра, поначалу валялся дома, но с наступлением тепла всё чаще шатался по улицам, стараясь выбираться по ночам, или катался в пригородных электричках.
– Ты слышал только плохое? – Иван обернулся. Он был спокоен, лишь играющие на скулах желваки выдавали его волнение.
– Понимаешь, я не знаю, то ли в головах людей царит одна мерзость, то ли я слышал лишь негатив. Но это было страшно. Это как…– Максим запнулся, подбирая сравнения. – Это как, снять кожу и посыпать рану солью. В те недолгие моменты просветления я всё думал: неужели и в головах моих родителей и жены царила такая тьма. Неужели и я полон этого дерьма? Всей этой ненавистью, похотью, агрессией, злобой?
Он замолчал, покачался на табурете. Максим чувствовал себя выпотрошенной рыбой. Сил не осталось. Но в то же время что-то в груди, какая-то сжатая пружина, потихоньку начала распрямляться, принося облегчение. Это было как вскрыть застарелый нарыв, с гноем уходила, хорошо спрятанная, но не менее острая боль.
– Как ты это выдержал. Как не спился, как не вздёрнулся? – Иван вопрошающе смотрел на него.
– Так и было бы, мысли нехорошие уже подкрадываться начали. Если бы не одно событие. Как-то, приняв дозу больше, чем обычно, я уснул в электричке. Очнулся я на неизвестном полустанке. Видимо, меня кто-то «обул», а потом выкинул из поезда. Не видя дороги, побрёл в лесок, там свалился в кусты и уснул. Проснулся с похмела, голова трещит, во рту противно. Встать не могу. «Голяк», в общем, полный. Лежал, сил подняться не было, я же практически ничего не ел, пил только. Сколько так провалялся, не знаю. Не меньше пары часов точно. Но, понимаешь, вот какая штука. Голоса я начинал слышать где-то через час, как очнусь, неважно, сколько я до этого выпил. А тут голосов нет, совсем. Птички поют. Ветер деревьями шелестит. Цветами пахнет, а в голову никто не лезет. Пролежал я до ночи. Благодать. Когда водка совсем выветрилась, думать начал. До этого не мог. Сам понимаешь, как тут ясно мыслить, когда, либо бухой почти до бессознанки, либо голоса в голове молотят.
Максим замолчал. Сидел, уткнувшись лицом в ладони. Потом продолжил.
– Лежал, думал, выходов у меня было немного, либо на суку повиснуть, напоследок ногами дёрнув. Либо как-то избавляться от голосов. Ладно бы они, что хорошее говорили, а то такой мрак. Что у мужиков, что у баб. Ты не поверишь, что я однажды слышал от девчонки одной молоденькой. Красивой такой. Я блевал потом полдня. У неё такое в голове творилось, до сих пор без дрожи вспоминать не могу.
– И знаешь, вздёрнуться мне как-то привлекательней показалось. И повесился бы, да сил не хватило. Ничего меня тут не держало, близких никого. Если бы…
Максим опять умолк, на этот раз надолго. Сидел, сцепив пальцы, вспоминая, как всё было. Иван его не торопил. Курил, молча глядя в потолок. Потом открыл рот, словно хотел что-то сказать, но Максим его не услышал, он был далеко.
Пётр Свержин.
Девять лет назад…
Я бы умер в том овражке. Лежал, сил пошевелиться не было. Сначала плохо было, голова разламывалась после вчерашнего, тело крутило. Выпить хотелось – ужас. Встать не мог. Потом, когда похмелье прошло, хорошо стало. Тишина, никто в голову не бубнит, удивительно. Когда окончательно проспался, думать начал. Жить так дальше нельзя. Над головой шумела берёза. Представил – перекидываю ремень через сук и прыгаю. Конец мученьям. Не получилось – ни рукой шевельнуть, ни ногой. Два раза под себя сходи. Весь вечер и всю ночь пролежал. Под утро молиться начал, чтобы меня никто не нашёл. Чтобы умер и отмучился.
Родителей видеть начал. Я к ним руки протягиваю, кричу:
– Мама, мама, возьми меня отсюда.
Как в детстве, когда они во втором классе в лагерь пионерский меня отправили. Я там неделю только пробыть смог. В первый же родительский день меня зарёванного они забрали. Мальчишки старшие издевались, я самый младший был, за себя постоять не мог.
Кричу я:
– Мама, мама, забери меня, я к вам с отцом хочу, мне плохо, мама.
А она головой так качает, а слёзы по щекам текут, отец рядом стоит, хмурится и говорит:
– Рано тебе.
Потом Олюшка с Настюшей приходили. Посидели рядом, погладила меня жена по голове, и ушли они.
А я уже и плакать не могу. Хриплю, за горло цепляюсь, задушить себя хочу. Сил нет, пальцы разжимаются.
Сколько я так пролежал – не знаю. «Кончаться» уже начал. Тела не чувствую, небо только перед глазами качается. Хорошее такое небо – синее, птица в вышине парит. Луч солнечный на лицо упал, прикрыл я глаза. Мыслей никаких, даже плакать не хочется. Спокойно так. Сквозь веки солнце вижу, коже тепло. Вдруг тень меня накрыла, наверное, облако солнышко закрыло. Я почувствовал, что отрываюсь от земли и прижимаюсь к чему-то твёрдому, но тёплому, живому, и плавно покачиваясь, лечу.
Мерное покачивание убаюкивало, я через силу разлепил веки. Перед глазами было что-то белое и пушистое. Надо мной склонилось лицо. Белым и пушистым была борода, обрамлявшая жёсткие губы, выше я увидел прямой нос и ярко-голубые, под густыми бровями, глаза.
– Боже, ты меня к родителя несёшь? Мне плохо без них. – Еле проскрипел я, чувствуя, как повлажнели щёки. Я заморгал, что сбросить с век слезы. Зачем плакать. Ведь всё будет хорошо, я скоро увижу родных.
– Спи, – раздалось прямо в голове, и я уснул.
Проснулся я от звонких ударов железа по дереву. В приоткрытую дверь было видно, как принёсший меня человек, рубил дрова. Колун поднимался и опускался с равномерностью машины. Вверх, вниз, сухой треск. Поставить полено на колоду, и движения повторялись – вверх, вниз, сухой треск. И так раз за разом.
– Проснулся, странник. – Не оборачиваясь, сказал человек.
По спине, в такт движениям перекатывающихся, словно змеи, мышц, мотался густой хвост белоснежных волос. Как потом оказалось, волосы были не белыми – седыми.
Я заворочал распухшим языком в пересохшем рту.
– Что пустыня во рту? – он усмехнулся.
Прислонив топор к колоде, зашёл дом. Через минуту он склонился надо мной с ковшом в руках. В нём оказалось парное молоко. Я жадно припал к краю и не отрывался, пока не показалось дно. Едва он убрал ковшик, меня вывернуло только что выпитым. Меня рвало и рвало, буквально выворачивая наизнанку. Когда рвота прекратилась, он снова напоил меня. Я напился, и всё повторилось вновь. Под конец шла одна желчь.
– Сколько же дряни в тебе, – он покачал головой.
Обессиленный, я откинулся на подушку. Несмотря на происшедшее, я чувствовал себя почти хорошо. Голосов не было.
Мне, наконец, удалось рассмотреть моего спасителя. Язык не поворачивался назвать его стариком. Прямая спина, широкие плечи, открытый взгляд синих глаз. Если бы не седая пышная борода, и сетка морщин, покрывающая лицо, могло показаться, что передо мной стоит тридцатилетний мужчина.
– Спросить чего хочешь? – поинтересовался он.
– Как вы меня нашли?
– Кричал ты сильно.
– Я не звал на помощь.
– А кто сказал, что ты звал на помощь? Кричать можно не только ртом.
– Так вы тоже…?
Он поднял руку:
– Об этом потом, спи.
Он подошёл ко мне, опустил руку на лоб. Я почувствовал непреодолимое желание уснуть. Сон смежил мне веки. Последнее, что я услышал:
– Спи, Странник…
Максим замолк. Знаком попросил сигарету. За окном наступил тёмный августовский вечер. Сквозь листву слабо мерцали первые звёзды.
– Кто это был? – Иван протянул ему сигарету.
– Человек. – Максим затянулся.
Что за человек, Иван не стал уточнять.
– Долго ты у него пробыл?
– Полгода, год, неважно.
– А что важно?
– Важно, что я у него делал.
– И что же ты у него делал?
– Учился.
– Чему?
– Как дальше жить.
– Научился?
Они перебрасывались фразами, как волейболисты мячом.
– Судя по тому, что ты здесь, то нет.
– Почему?
– Потому что ты пришёл не из-за моих красивых глаз, ведь так?
– Так, – Иван запнулся, подбирая слова, – я здесь из-за твоих, скажем так, не совсем обычных способностей.
– Верно. – Максим кивнул. – И много ты знаешь людей, со скажем так, не совсем обычными способностями?
Иван улыбнулся:
– Чувство юмора ты не потерял, это хорошо. Много, но… – Он покрутил пальцем в воздухе. – В основном это шарлатаны.
Максим выпустил дым из ноздрей:
– Да, я в своё время достаточно покрутился в магической тусовке. Так вот, люди в ней делятся на три категории. Первая, самая многочисленная группа – больные люди, на сленге – шизотерики.
– Это от слова шиза? – Иван заглянул в пачку, смял её. – Сигареты кончились.
– Так пошли кого-нибудь, пусть сбегают, принесут.
– Ты ошибаешься, Максим, я здесь один.
– Здесь – да, а там? – Максим махнул в сторону окна. – Что и прикрытия нет?
Гость покачал головой:
– Я сам себе прикрытие. Продолжай, я слушаю.
– Вторая группа, поменьше, но тоже большая. – Максим усмехнулся. – Эти, как ты верно заметил, просто шарлатаны. Народ дурят за бабки. Экстрасенсы, маги, колдуны разные. И наконец, третья, этих меньшинство. Буквально единицы. Они обладают настоящим даром.
Иван с тоской посмотрел на смятую пачку.
– Чего ты мучишься? Пошли, сходим – купим, всё равно прогуляться надо. Тут дышать нечем. – Максим поднялся.
Крюков согласно кивнул.
Глава 5.
На улице было темно и прохладно. Жара, похоже, спадала. Они купили в круглосуточном ларьке курево.
– Вот ведь семь лет не курил, а тут опять… – Иван махнул рукой.
Они постояли, раскуривая сигареты. Потом, не сговариваясь, пошли в лесополосу, раскинувшуюся в десяти минутах ходьбы. На удивление она была пуста, обычно в это время в ней кишела молодёжь, но сейчас стояла тишина. Даже машин не было слышно, лишь в кустах попискивала мелкая пичуга. А если зайти поглубже, возникало ощущение, что находишься в лесу. Фонарей не было, из освещения одни редкие звёзды и полная луна. Максим видел только силуэт своего спутника на фоне тёмного неба. Они присели на поваленное дерево. Продолжили прерванный разговор.
– Так что насчёт дара. Как он им достаётся?
– Кому как. Кому от рождения, кому в результате практики, если повезёт Учителя найти. Есть мнение, что магии можно научить любого. Было бы кому учить. Плюс желание и огромная работоспособность, что есть не у всех. Гораздо интереснее тусить, читать магические книги и пускать в своём воображении огненные шары. Интереснее и безопаснее говорить о магии, чем каждый день по много часов трудиться над собой. Выполнять монотонные упражнения, переступая через боль, сомнения и жалость к себе. Ломать себя старого, чтобы взрастить нового. Всё, что растёт хорошо – растёт медленно.
Максим замолчал. Иван его не торопил. Сидел, глядел в небо.

