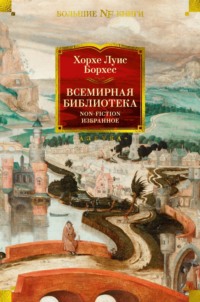
Всемирная библиотека. Non-Fiction. Избранное
Он также не говорил – и это также надо подчеркнуть – о конечном количестве атомов. Ницше отрицает атомы; атомистику он считал не чем иным, как моделью Вселенной, созданной лишь для глаз и для математического восприятия… Обосновывая свой тезис, он говорил об ограниченной силе, действующей в бесконечном времени, но неспособной на неограниченное число вариаций. Тут кроется коварный подвох: сперва Ницше предостерегает нас от мысли о некой бесконечной силе – «остережемся подобных оргий мысли», – а затем великодушно допускает, что время бесконечно. Точно так же ему нравится ссылаться на Предыдущую Вечность. Например: равновесие космической энергии невозможно, ибо в противном случае оно уже установилось бы в Предыдущей Вечности. Или так: всемирная история повторялась бесконечное число раз – в Предыдущей Вечности. Ссылка кажется убедительной, однако нелишне напомнить, что эта Предыдущая Вечность (или aeternitas a parte ante[121], как сказали бы теологи) есть не что иное, как наша природная неспособность представить, что у времени может быть начало. Такая же неспособность присуща нам и в отношении пространства, и потому ссылаться на Предыдущую Вечность столь же плодотворно, как упоминать некую Бесконечность Справа. Иначе говоря: если для наших чувств время бесконечно, то бесконечно и пространство. Эта Предыдущая Вечность не имеет ничего общего с реальным прошедшим временем; пойдем вспять от первой секунды – и мы увидим, что ей должна предшествовать другая, а той – еще другая, и так до бесконечности. Дабы остановить это regressus in infinitum[122], Блаженный Августин решил, что первая секунда времени совпала с первой секундой Творения – non in tempore sed cum tempore incepit creatio[123].
Ницше прибегает к сравнению с энергией; второй закон термодинамики гласит, что есть необратимые энергетические процессы. Тепло и свет – это всего лишь формы энергии. Достаточно спроецировать луч света на черную поверхность, и он превратится в тепло. Тепло, напротив, уже не обретет форму света. Это доказательство, с виду безобидное и банальное, уничтожает «циклический лабиринт» Вечного Возвращения.
Первый закон термодинамики гласит, что количество энергии во Вселенной постоянно; второй – что энергия эта стремится к распаду, к беспорядку, хотя общее ее количество не уменьшается. Эта постепенная дезинтеграция сил, образующих Вселенную, есть энтропия. Как только будет достигнут максимум энтропии, как только разность температур выровняется, как только устранится (или компенсируется) всякое воздействие одного тела на другое, мир станет беспорядочным скоплением атомов. В глубинном центре небесных тел это труднодоступное и губительное равновесие уже наступило. Благодаря взаимодействию атомов его достигнет вся Вселенная, и тогда она станет остылой и мертвой.
Свет, переходя в тепло, исчезает; Вселенная, минута за минутой, становится все более невидимой. Она также становится более легкой. Когда-нибудь вся она обратится в тепло, тепло всюду одинаковое, неподвижное, ровное. Тогда Вселенная умрет.
Последнее сомнение, на сей раз метафизического рода. Если принять тезис Заратустры, мне все же непонятно, каким образом два тождественных процесса не сливаются в один. Неужто достаточно простой их последовательности, причем никем не удостоверенной? Раз нет особого архангела, который вел бы счет, тогда что означает тот факт, что мы проходим цикл тринадцать тысяч пятьсот четырнадцатый, а не первый в ряду, или цикл номер триста двадцать два с показателем степени две тысячи? Для практики – ничего не означает, но мыслителю это не помеха. Для мысли – тоже ничего, а это уже серьезный недостаток.
1936
* * *Из книг, которыми я пользовался для вышеизложенного очерка, я должен упомянуть следующие:
Nietzsche, Friedrich. Die Unschuld des Werdens. Leipzig, 1931.
Nietzsche, Friedrich. Also sprach Zarathustra. Leipzig, 1892.
Russell, Bertrand. Introduction to Mathematical Philosophy. London, 1919.
Russell, Bertrand. The ABC of Atoms. London, 1927.
Eddington, Arthur Stanley. The Nature of the Physical World. London, 1928.
Deussen, Paul. Die Philosophic der Griechen. Leipzig, 1919.
Mauthner, Fritz. Wörterbuch der Philosophie. Leipzig, 1923.
San Agustin. La ciudad de Dios / versión de Diaz de Beyral. Madrid, 1922.
История вечности
IВ одном отрывке из «Эннеад», где задается вопрос о времени и его природе, говорится, что прежде времени надо знать, что такое вечность, ибо она, как известно, есть модель и прообраз времени. Это предупреждение, если принять его всерьез, очень существенно, потому что, похоже, оно исключает возможность какого бы то ни было взаимопонимания с человеком, это написавшим. Время для нас – проблема, проблема жгучая и настоятельная и, возможно, во всей метафизике самая жизненно актуальная, вечность же – игра и докучливая мечта. У Платона в «Тимее» мы читаем, что время – это текучий образ вечности, мнение, ничуть не поколебавшее всеобщее убеждение, что именно вечность соткана из времени. Историю вечности, этого неуклюжего слова, вокруг которого столько разнотолков, я и намерен описать.
Выворачивая наизнанку метод Плотина – единственный способ им воспользоваться, – я начну с того, что припомню все темное и невразумительное, что связано со временем, этой естественной метафизической тайной, которая стоит прежде вечности – детища людей. Одно из таких мест, не самое темное, но и не самое ясное, касается направления времени. Все считают, что оно течет из прошлого в будущее, но вполне вероятно и обратное, то, о чем пишет испанец Мигель де Унамуно: «В сумерках река времени струится из вечного завтра…»[124]
И то и другое одинаково правдоподобно и одинаково непроверяемо. Брэдли отвергает обе концепции и выдвигает свою собственную: будущее следует изъять, оно всего лишь выражает наши чаяния, а «актуальное» – представить как распад исчезающего в прошлом настоящего. Этот уход в прошлое обычно соответствует периодам упадка и засилья пошлости, тогда как всякое энергетическое действие мы соотносим с устремленностью в будущее…
Брэдли отрицает будущее, одна из философских школ Индии отрицает настоящее, считая его неуловимым. «Апельсин или вот-вот сорвется с ветки, или он уже на земле, – утверждают эти странные вульгаризаторы. – Никто не видит, как он падает».
Есть и другие трудности. Одна из них, и возможно, наибольшая – как сочетать личное время каждого с общим математическим временем – вызвала много толков в связи с релятивистским бумом, и все это помнят или помнят, что совсем недавно помнили. По крайней мере, мне эта проблема представляется так: если время у нас в голове, то как оно может быть одним и тем же в головах тысяч или хотя бы у двух людей? Другая трудность описана элеатами в связи с отрицанием движения. Ее можно изложить так: четырнадцать минут не пройдут за восемьсот лет, потому что до того, как пройдут четырнадцать минут, должны пройти семь, а до семи – три с половиной минуты, а до того – минута и три четверти, и так до бесконечности, так что четырнадцать минут никогда не пройдут. Рассел оспаривает этот довод, утверждая, что бесконечные числа реальны и что в них нет ничего необычного, но что они, по определению, даются сразу, а вовсе не как «предел» беспредельного процесса исчисления. Эти огромные величины Рассела удачно предвосхищают ту вечность, которая образуется не через прибавление частей.
Ни одна из придуманных людьми вечностей – ни вечность номинализма, ни вечность Иринея или Платона – не соединяет механически прошлого, настоящего и будущего. Она и проще, и чудеснее, это одновременность всех этих времен. Язык современности и тот поразительный словарь, dont chaque édition fait regretter la précédente[125], похоже, проходят мимо этого, но именно так полагали метафизики. «Вещи в душе располагаются последовательно: сначала Сократ, потом лошадь, – читаю я в пятой книге „Эннеад“, – всегда отдельная вещь воспринимается, а тысячи вещей теряются, но Божественный Промысел объемлет все вещи. И прошлое находится в настоящем, в точности как грядущее. Ничто не проходит в этом мире, все вещи пребывают, и удел их – спокойствие и безмятежность».
Я перехожу к рассмотрению той вечности, из которой развились все последующие. Действительно, ее первооткрыватель не Платон – в одном платоновском тексте говорится о «древних и священных философах», предшественниках Платона, – но он с блеском углубляет и сводит воедино все сделанное до него. Дейссен сравнивает платоновский труд с закатом: тот же пронзительный свет в предчувствии конца. Все греческие концепции вечности вошли в тексты Платона и были им либо отвергнуты, либо изложены в духе трагедии. Поэтому я и ставлю Платона прежде Иринея с его второй вечностью, увенчанной тремя разными и непостижимо одинаковыми фигурами.
Вот что так пылко говорит Плотин: «Всякая вещь на умопостигаемых небесах есть небо, и земля там тоже небо, как и животные, растения, люди и море. И зрят они мир нерожденный. Все смотрится в иное. И нет в сем царстве вещи непрозрачной, нет ничего непроницаемого, мутного, но свет сталкивается со светом. Все везде и все – это все. Каждая вещь есть все вещи. И солнце – это все светила, и всякое светило – это все светила и солнце. И никому тот мир не чужбина». Этот слаженный универсум, этот апофеоз уподобления и согласия еще не вечность, но прилегающее к ней небо, не вполне свободное от чисел и пространства. К созерцанию вечности, мира универсальных форм, призывает и следующий отрывок из пятой книги: «Пусть люди, зачарованные здешним миром, его мощью, красотой, упорядоченностью непрерывного движения, богами видимыми и невидимыми, в нем обитающими, демонами, деревьями и животными, вознесутся мыслью к Реальности, ибо все это лишь ее отражение. И увидят они там умопостигаемые формы, не заемные у вечности, но истинно вечные, и узрят ее предводителя, чистый Ум, и недостижимую Мудрость, и истинный век Хроноса, чье имя Полнота. Все бессмертные вещи в нем. Всякий ум, всякий бог и всякая душа. Он везде, зачем ему куда-то идти? Он счастлив, для чего ему перемены и превратности? И то, что потом он обрел, было у него вначале. Все ему принадлежит в единой вечности – той вечности, которой вторит время, кружа вокруг души, всегда бегущей от прошлого, всегда стремящейся в будущее».
Частое употребление множественного числа в предыдущих абзацах может ввести в заблуждение. Идеальный универсум, в который нас приглашает Плотин, не так тяготеет к изменчивости, как к исполненности, в нем все тщательно отобрано, нет никаких повторов и плеоназмов. Это недвижное и страшное собрание платоновских архетипов. Не знаю, видели ли этот мир когда-нибудь глаза простого смертного – я не говорю о мистических откровениях и кошмарах, – или это был плод воображения изобретшего его грека, но есть в нем что-то от музея: что-то застывшее, монструозное, разложенное по полочкам. Это, впрочем, личное впечатление, которым читатель может пренебречь, но из-за этого не стоит пренебрегать основными сведениями о платоновских архетипах или первозданных причинах и идеях, которые населяют и составляют вечность.
Здесь не место детальному обсуждению платоновской системы, сделаю только несколько замечаний предварительного порядка. Для нас последняя реальность вещей заключается в том, что они суть материя, вращающиеся электроны, пробегающие целые галактики вокруг атомов. Для тех, кто мыслит как платоник, это вид, форма. В третьей книге «Эннеад» мы читаем, что материя нереальна, что она чистая и полая пассивность, принимающая любые универсальные формы, как их принимает зеркало, формы будоражат материю, не меняя ее сущности. Ее наполненность – это именно наполненность зеркала, прикидывающегося наполненным, но на самом деле оно пусто, это призрак, который не исчезает, потому что ему недостает сил даже на то, чтобы перестать быть. Главное же – формы. О них, вторя Плотину, но много позже, Малон де Чайде говорит следующее: «Чтобы постичь действия Бога, вообразите, что у вас есть восьмигранная золотая печать, на одной стороне которой вычеканен лев, на другой – лошадь, на третьей – орел, и так подряд. И вот вы на одном куске воска отпечатываете льва, на другом – орла, на третьем – лошадь… конечно, все, что есть на воске, есть и на золоте, и нельзя отпечатать того, чего не было вычеканено на печати. С одним различием: то, что есть на воске, всего лишь воск и ничего не стоит, а то, что на золоте, есть золото и стоит дорого. В тварном мире добродетели конечны и ничего не стоят. В Боге они золотые, потому что они суть сам Бог». Отсюда можно заключить, что материя – это ничто.
Как ни плох этот критерий, как ни туманен, мы постоянно им пользуемся. Отрывок из Шопенгауэра – это не бумага лейпцигской конторы, не печать, не утонченная графика готического шрифта, не совокупность звуков, составляющих слова, не даже наше мнение о нем. Мириам Хопкинс сотворена из Мириам Хопкинс, а не из азотистых соединений или минералов, водных растворов углерода, алкалоидов и жиров, образующих преходящую субстанцию этого неуловимого серебристого привидения или умопостигаемой сущности Голливуда. Этот рассудительный ход мыслей побуждает нас отнестись к платоновскому тезису более примирительно. Мы его сформулируем так: индивиды и вещи существуют в той мере, в которой они причастны виду, который их составляет и является их непреходящей реальностью. Вот удачный пример: птица. Ее привычка к стае, маленькие размеры, неизменность внешнего вида, издревле идущая связь с двумя зорями – утренней и вечерней, то обстоятельство, что птиц мы чаще слушаем, чем смотрим на них, – все это вынуждает нас отдать предпочтение виду и ни во что не ставить индивид как таковой[126]. Китс очень недалек от истины, когда полагает, что чарующий его соловей – тот самый соловей, которого слышала Руфь, «бредущая по чуждому жнивью». Стивенсон поклоняется одной-единственной птице – соловью, пожирателю времени. Шопенгауэр тоже вносит свою лепту – соображение о чистой телесности, в которой живут животные, об их неведении смерти и памяти. Он не без улыбки присовокупляет: «Если я скажу вам, что играющий во дворе серый кот – тот самый, который прыгал и проказничал пятьсот лет назад, вы вольны думать обо мне что угодно, но еще бóльшая нелепость полагать, что это какой-то другой кот». И далее: «Удел львов требует львиности, которая во времени предстает как некий бессмертный лев, живущий за счет непрестанно воспроизводящихся индивидов, их рождение и смерть не что иное, как биение пульса этого непреходящего льва». И до того: «Некая бесконечность предшествовала моему рождению. Так кем же я был тогда? С метафизической точки зрения можно было бы сказать: я – всегда был „я“, иными словами, все, кто в то время говорил „я“, были мной».
Мне почему-то кажется, что читатель одобрительно отнесется к вечной Львиности, что он испытает какое-то торжественное облегчение перед этим многократно отразившимся в зеркалах времени уникальным Львом. Зато от понятия вечной Человечности я этого не жду, я знаю, что наше «я» ее отвергает, предпочитая бесстрашно распространять ее на чужие «я». Скверно, что Платон предлагает нам еще более недоступные универсальные формы. Такие, как Стольность, или устроившийся на небесах Умопостигаемый Стол, этакий четырехногий архетип, мечта каждого столяра. Начисто отрицать Стольность я, конечно, не могу – без идеального стола нам не добраться до конкретных столов. А то еще Треугольность: пресловутый многоугольник с тремя сторонами, расположенный вне пространства и не снисходящий до равносторонности, разносторонности и равнобедренности. Ну что ж, против азов геометрии тоже сказать нечего. Но вот что касается Необходимости, Разума, Отсрочки, Отношения, Рассмотрения, Размера, Порядка, Медлительности, Положения, Заявления, Беспорядка, то об этих умственных конструктах я не знаю, что и подумать, полагаю, их никто и представить себе не может, разве что у него агония, жар или ум за разум зашел. Впрочем, я совсем позабыл о главном архетипе, том, что объемлет все упомянутые выше и всех так воодушевляет: о вечности, чье разбитое отражение есть время.
Не знаю, достаточно ли моему читателю оснований для того, чтобы перестать доверять платоновскому учению, у меня их полным-полно: во-первых, Платон сополагает несовместимые родовые и абстрактные понятия, сосуществующие в мире архетипов; далее, он умалчивает о способе, которым вещи приобщаются к универсальным формам, да и подверженность этих стерильных архетипов инфекции множественности и разнообразия тоже подозрительна. Проблемы эти, впрочем, можно решить. Ведь архетипы не менее туманны, чем временны́е вещи. Созданные по образу вещей, они страдают теми самыми недостатками, которые им предлагалось устранить. Вот Львиность. Как изъять из нее Надменность, Рыжесть, Гривастость, Когтистость? На этот вопрос нет и не может быть ответа. Не стоит ждать от слова «львиность» чего-то особенного, чего нет в слове «лев»[127].
Возвращаюсь к Плотиновой вечности. Пятая книга «Эннеад» включает в себя самый общий перечень составляющих ее сущностей. Здесь и Справедливость, и Числа (до которого?), и Добродетели, и Деяния, и Движение, но нет там ни ошибок, ни дурных слов, ибо они суть недуги материи, до которой пала форма. Есть Музыка, но в виде Гармонии и Ритма, а не мелодии. У патологии и агрономии нет архетипов, потому что в них нет нужды. Ничего не говорится и о хозяйстве, стратегии, риторике и искусстве правления; впрочем, как явления временны́е, они, возможно, соотносятся с архетипами Красоты и Числа. Там нет индивидов и нет никакой первозданной формы ни для Сократа, ни для Человека Высокого Роста, ни для Императора, а есть только общее понятие «Человек». Напротив, все геометрические фигуры представлены. Из цветов есть только основные; ни Пепельного, ни Пурпурного, ни Зеленого в этой вечности нет. Иерархия важнейших архетипов по восходящей линии такова: Различие, Тождество, Движение, Покой и Бытие.
Мы рассмотрели вечность, которая беднее мира. Нам остается разобрать, как ее освоила церковь, превратив в источник богатства, неизмеримо большего, чем то, которое добывает время.
IIЛучшее документальное свидетельство первой вечности – пятая книга «Эннеад», второй, или христианской, вечности – одиннадцатая книга «Исповеди» св. Августина. Первую вечность нельзя себе представить вне платоновского учения об идеях, вторую – без тайны Триединства и споров вокруг предназначения и воздаяния. Пятьсот страниц ин-фолио не исчерпали темы; полагаю, две-три странички ин-октаво не покажутся расточительством.
Можно утверждать с большой степенью вероятности, что «нашу» вечность учредили несколько лет спустя после того, как хроническое кишечное недомогание свело в могилу Марка Аврелия, и что местом, где произошло это головокружительное событие, была балка Фурвьер, прежде называемая Форум Ветус, а ныне знаменитая своей базиликой и фуникулером. Эта учрежденная епископом Иринеем всеобъемлющая вечность была не просто новой сутаной, в которую облеклась церковь, не была она и каким-то доктринальным изыском, ей пришлось стать сознательной позицией и оружием. Слово рождается Отцом, и Дух Святой исходит от Отца и от Сына, на основании этих двух бесспорных фактов гностики приходят к заключению, что Отец был раньше Сына и оба предшествовали Духу. Такой вывод разъединял Троицу. Ириней разъяснил, что оба события – рождение Сына Отцом и исхождение Духа от них обоих – осуществляются не во времени, но разом охватывают прошедшее, настоящее и будущее. Эта точка зрения возобладала, сейчас она – догма. Так была провозглашена вечность, таившаяся прежде в тени какого-то безвестного платоновского текста. Неслиянность и нераздельность трех ипостасей Господа ныне представляется слишком незначительным вопросом для того, чтобы на него серьезно отвечать, и, однако, не приходится сомневаться в том, что этот вопрос имел первостепенное значение, поскольку с его решением связывались определенные надежды: «Aeternitas est merum hodie, et immediata et lucida fruitio rerum infinitarum»[128]. Идеологическое значение полемики вокруг Троицы также сомнению не подлежит.
Сейчас в светских католических кругах к Троице относятся как к чему-то само собой разумеющемуся, безупречно верному и беспредельно архаичному. Меж тем в кругах либералов ее рассматривают как воплощение изживающей себя церковной догмы, подлежащей устранению по мере развития демократии. Конечно, троичность не умещается в эти представления. Внезапную идею объединить в одно целое Отца, Сына и призрак можно счесть интеллектуальным извращением, она – как чудище из ночного кошмара, ведь если ад представляет собой физическое насилие как таковое, то сплетение трех фигур – это какой-то интеллектуальный ужас, некая заарканенная вечность, уловленная при помощи двух повешенных друг против друга зеркал. У Данте она изображена в виде разноцветных прозрачных кругов, совпадающих друг с другом. У Донна это толстые змеи, обвившиеся одна вокруг другой. «Toto coruscat trinitas mysterio»[129], – написал св. Павлин.
Идея соединения трех лиц в одном, взятая сама по себе, отдельно от концепции искупления, должна показаться странной. От того, что мы будем рассматривать ее как вынужденную меру, тайна Троицы не станет менее загадочной; правда, может выявиться ее назначение. Нетрудно понять, что отказ от троичности или по крайней мере от двоичности превращает Иисуса из вечного мерила нашей веры в какого-то случайного посланца Господа, некий исторический факт, которого могло и не быть. Если Сын – не Отец, искупление – не дело рук Бога, а если Он не вечен, не вечна и жертва вочеловечения и крестных мук. «Только беспредельное совершенство может спасти навеки падшую душу», – указывает Иеремия Тейлор. Так получает оправдание догма, хотя представление о рождении Сына Отцом и Духа обоими не снимает вопроса о приоритете, не говоря уже вообще об ущербности всякой метафоры. Погрязшие в спорах о троичности богословы приходят к выводу, что для путаницы нет оснований: в одном случае речь идет о рождении Сына, в другом – о рождении Духа. Рождение Сына вечно, исхождение Духа вечно, таков высокомерный вердикт Иринея, выдумавшего деяние вне времени, какое-то искореженное zeitloses Zeitwort[130], которое можно отвергнуть, можно превознести, только нельзя обсуждать. Ириней решил спасти чудовище, и ему это удалось. Известно, что он был ненавистником философов и сражаться с ними философским оружием ему, вероятно, доставляло особенное удовольствие.
Для христианина первый миг времени и первый миг Творения совпадают: так себе и представляешь, как Бог на досуге сматывает века в клубок «отошедшей» вечности. Что-то в этом роде не так давно было описано Валери. А Эмануэлю Сведенборгу («Vera Christiana religio»[131], 1771) привиделась у пределов небесной сферы фигура, пожирающая тех, кто в безрассудстве своем силится узнать, что же это делал Бог до сотворения мира.
Открытая Иринеем христианская вечность с самого начала отличалась от вечности александрийской. В качестве отдельного мира христианская вечность заняла место одного из девятнадцати атрибутов божественного ума. Выставленным на обозрение толпы архетипам грозила участь быть превращенными в божества или ангелов. Их реальность признавалась большей, чем реальность вещей тварного мира, с тем различием, что теперь они в качестве вечных идей были включены в Творящее Слово. Альберт Великий разрабатывает понятие universalia ante res[132], утверждая, что эти универсалии вечны и предшествуют вещам тварного мира как их прообразы или формы. Он тщательно разграничивает их с universalia in rebus[133], которые по сути те же самые понятия божественного ума, но уже получившие разнообразное временно́е воплощение, и больше всего заботится о том, чтобы их не смешивали с universalia post res[134], формируемыми индуктивным мышлением. Временны́е универсалии отличаются от божественных только тем, что им недостает творящей способности; у схоластов не возникает и тени сомнения, что категории божественного ума совпадают с категориями латыни… Впрочем, я, кажется, забегаю вперед.
Богословы не слишком утруждают себя вечностью. Обычно они ограничиваются указанием на то, что это исчерпывающее переживание всех фрагментов времени как актуальных, и мусолят Священное Писание в поисках подтверждения собственных измышлений, при этом складывается впечатление, что Дух Святой так и не сумел толком выразить то, что так внятно говорит комментатор. Потому-то им так нравится это свидетельство то ли великолепного презрения, то ли просто долголетия: «Один день перед Господом как тысяча лет, и тысяча лет как один день», или великие слова, услышанные Моисеем и составлявшие имя Бога: «Я есмь Сущий», или те, что услышал до и после видений стеклянного моря, багряного зверя и птиц, пожирающих трупы тысяченачальников, св. Иоанн Богослов с Патмоса: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец»[135]. И еще они ссылаются на определение Боэция, сформулированное им в тюрьме накануне гибели от руки палача: «Aeternitas est interminabilis vitae tota et perfecta possessio»[136], которое мне еще больше нравится в прочувствованной интерпретации Ханса Лассена Мартенсена: «Aeternitas est merum hodie, est immediata et lucida fruitio rerum infinitarum»[137]. И напротив, богословы предпочитают умалчивать о темных речах стоявшего на море и на земле Ангела (Откр. 10: 6): «И клялся Живущим во веки веков, который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет». По правде говоря, в последнем стихе имеется в виду не столько время, сколько отсрочка.

