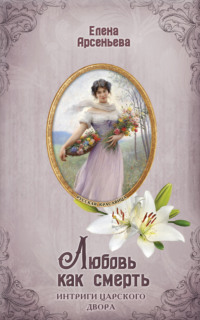
Любовь как смерть
Бахтияр опустился на колени, положил Машу наземь и несколько мгновений смотрел, как она лежит перед ним. От его взгляда, словно прожигавшего насквозь, в ней стал разгораться стыд, а туман чувственности, отуманивший голову, начал рассеиваться. Остатки девичьей осторожности, чудилось, вскрикнули в ее голове на разные голоса: на матушкин, теткин, нянькин, на голоса подружек, с ужасом и восторгом смакующих подробности судеб невест, доставшихся женихам распечатанными…
Маша шевельнулась, чтобы встать, однако Бахтияр резким движением перевернул ее на живот, рыком заставил встать на колени и забросил юбки на голову.
Маша испуганно задергалась, однако Бахтияр стиснул изо всех сил руками и коленями, бормоча:
– Погоди! Я ж для тебя как лучше! Жених увидит, что ты не распочатая, девка, значит, а ты счастье узнаешь!
«Счастье? – ужаснулась Маша. – Он обещал показать счастье, но это… Как у собак? Как у свиней?!»
Виденные не раз картины совокуплений животных наполнили таким ужасом, что девушка взвизгнула панически, завертелась и каким-то образом исхитрилась вырваться, но встать на ноги не успела: разъяренный Бахтияр резко перевернул ее на спину, схватил под коленки и замер меж ее широко раздвинутых ног.
– Не хочешь по-моему? – шепнул злобно. – Ну так будь по-твоему!
Маша увидела его оголенные бедра и ужаснулась тому, что сейчас произойдет, неминуемо произойдет! Бахтияр навалился на нее, шарил жадной рукой по голому животу, а другой рукой сдавил ее горло. Маша испустила сдавленный крик, забилась, задыхаясь, как вдруг Бахтияр откатился в сторону, и девушка смогла вздохнуть.
Какие-то мгновения она лежала без сил, с ужасом ожидая, что черкес опять накинется на нее, и, когда кто-то поднял ее с земли, закричала – но тут же и осеклась, увидев незнакомое нахмуренное светлоглазое лицо, услышав торопливый встревоженный голос:
– Жива, красавица? Жива? Он сделал с тобой стыдное? Ну? Говори!
Незнакомец сердито тряхнул ее – у Маши мотнулась голова, как у куклы, клацнули зубы.
– Н-не-е-ет… – выдавила она. – Господь миловал…
– Вот уж правда что! – отозвался незнакомец. – Ну, коли так, убивать его до смерти я не стану, разве что поучу немного.
И он оглянулся, так что Маше сделался виден лежащий навзничь Бахтияр, особенно отвратительный с этими своими спущенными портками.
Маша закрылась было рукою, однако незнакомец ласково отвел ее ладони от лица:
– Ничего не бойся, милая! Он тебя больше не тронет. Иди своей дорогою. Да впредь будь осторожнее с этакими дьяволами!
Маша, моргая, вгляделась в его лицо: светлые глаза смеялись, искры лунного света шаловливо плясали в них, – нерешительно улыбнулась в ответ… да вдруг, вспомнив, что ему привелось увидать, повернулась и опрометью кинулась прочь, в глубину сада, не чуя под собою ног от лютого стыда.
Глава 4
«Юнец зело разумный»
– А может статься, вся беда в том, что вы от него ждете того, чего он дать не в силах?..
– Ну вот еще! – проворчал Алексей Григорьевич. – Не в силах! Сам не может – стало быть, надобно втемяшить ему, что надобно!
Василий Лукич Долгоруков, двоюродный брат Алексея Григорьевича, помалкивал. Ему понравилась осторожная точность вопроса, заданного племянником Федором; нравилось, как сдержанно, словно пробуя ногой зыбкую почву, он говорит:
– Нравственная физиогномия одиннадцатилетнего ребенка не может быть точно определена. Однако я слышал, будто сестре своей он написал особенное письмо, в котором обещал подражать Веспасиану[6], который желал, чтобы никто никогда не уходил от него с печальным лицом.
– Да ну?! – вытаращил глаза Алексей Григорьевич. – Это откуда ж ты успел такое вызнать?
Молодой князь Федор небрежно повел бровями, словно хотел сказать: «Да так, мелочь, сорока на хвосте принесла!» Однако Василий Лукич мысленно похлопал в ладоши: всего только два-три дня, как племянник воротился из Парижа, а уж цитирует государево частное письмо. Да, похоже, прав был покойный император Петр Алексеевич, когда назвал этого долгоруковского отпрыска «юнцом зело разумным» и на десять лет заслал его, тогда вовсе мальчишку зеленого, за границу: изучать языки, историю мировую, чужеземные обычаи, а пуще – ту хитрую науку ставить подножку целым государствам, коя именуется тайной дипломатией.
Василий Лукич знал, почему вернулся племянник. Всесильный Меншиков делал все более крутой крен в сторону союза с Австрией, еще в 1726 году заключив договор с нею, что означало согласованную политику в отношении Польши, Турции и Швеции. Франции при таком раскладе места в планах России как бы и не было. Конечно, можно было сколько угодно отговариваться тем, что русские-де обиделись, когда Людовик XV предпочел цесаревне Елизавете Петровне Марию Лещинску, дочь экс-короля Польши Станислава. Но ведь из ста принцесс, которые могли бы претендовать на французский престол, были отвергнуты 99, а ни одна из этих стран не объявила Франции войну, не отозвала своих послов, не подстроила втихомолку пакость, так что мотивы русских сочли в Париже несерьезными. А зря! Этот маневр Меншикова тоже был следствием изменившегося отношения светлейшего к юному Петру – по матери родственнику австрийского монарха. Все это не могло не сказаться тотчас на судьбе всех русских дипломатов во Франции, а главное – на русско-французских отношениях в будущем!
– Конечно, светлейший князь весьма умный человек… – пробормотал Федор.
– Для спокойствия и чести России было б лучше, если бы он оказался не столь умен! – вспыхнул Алексей Григорьевич.
Василий Лукич обменялся понимающим взглядом с Федором: спокойствие и честь России для Алексея Долгорукова означали прежде всего его собственное спокойствие и честь.
– Ну что ж, – пытаясь отвлечь сердитого дядюшку, сказал князь Федор, – новый государь приветлив, народ с удовольствием приписывает ему черты великодушия, доброты, снисходительности, которые сделали бы из него примерного царя. И он вовсе не так уж похож на деда, как можно было бы опасаться.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Граница Санкт-Петербурга в 20-е гг. XVIII в.
2
Старший в бурлацкой артели.
3
Проволочки (устар.).
4
Соловей (тюрк.).
5
Душенька (тюрк.).
6
Римский император, известный своим человеколюбием.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов