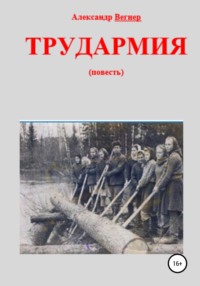
Трудармия
– Слышала. Родители что-то о вас говорили. А мы вот с сестрой едем, с Эллочкой. Ей ещё восемнадцати нет. Мама сказала: смотри за ней как следует, чтобы не простудилась, не голодала, не надорвалась.
– Не надорваться у нас вряд ли получится, – засмеялась Фрида.
– А из Марксштадта есть?
– Есть…
– Из Филиппсфельда?…
– Из Нидермунжу?....
– А из Москвы есть? – это высокая, статная блондинка в красивом пальто, словно бичом щёлкнула среди птичьего гомона.
Все мгновенно стихли. Не понимают, серьёзно спрашивает или шутит.
– А вы из Москвы? – смотрят, как на чудо.
– Из Москвы.
– Из самой Москвы? А как вас зовут? – восхищается Эмилия.
– Ольга Цицер меня зовут.
– А меня Эмилия. Миля.
– Вот и познакомились, – говорит Фрида. – Давайте-ка печку затопим, да чай вскипятим.
Жарко горят дрова в печке. Стучат колёса. Приспособили на печку ведро с водой. Ждут, когда вскипит. А уже и есть хочется. Не пора обедать? – Раз хочется, то пора.
– Ну-ка, доставай свои кружки! – командует Фрида. – Получай кипяток!
Попили кипятка. Каждому досталось по кружке, но сразу тепло пошло по намёрзшемуся телу. Мария достала кусок хлеба с холодной, вареной в мундире картошиной.
– Сейчас бы стол, вообще ехали бы как в плацкарте…
А в три встали на неизвестно какой станции. Отъехала дверь.
– Принимай обед!
– Так и обедом будете нас кормить.
– А как же: раз в день горячее питание положено.
На вагон почти двухведерная кастрюля супа. Не ахти какой суп, но картошка есть, и крупа, и даже капельки жира на поверхности золотятся.
Если так дальше пойдёт, можно жить.
Трое суток стучали колёса. Иногда вплетался металлический звон: знали – едут по мосту. Часто стояли подолгу. Тогда приходили от начальства с охраной, выпускали по двое.
На четвёртые сутки среди ночи почувствовали – поезд сбавляет ход. Вместо тук-тук-тук, тук-тук-тук, колёса стучали: тук…тук, тук…тук. Всё тише, тише. Потом: у-у-у – загудели тормоза, и толкнуло вперёд по ходу. Встали. Кто-то бежал вдоль состава, хрустя снегом. Дверь отъехала. Пахнуло холодом.
– Выходи из вагонов!
Неужто приехали?! Нервная дрожь спросонья. Темно – хоть глаз коли.
– Господи, зажгите же кто-нибудь спичку. Шаль не могу найти.
– Тётя Эмма, да вот же она, вы её под голову клали.
– Ах, да…
Женщины-трудармейки быстро собираются: суетливо заталкивают в свои мешки и рюкзаки платки, куски хлеба про запас, и все вместе к двери. Внизу белый снег – прыг в него.
– Ой, нога-а!
Вверху чёрное небо. Ни луны, ни звёздочки. Тишина. Откуда-то с края земли:
– Ту-у-у – паровоз.
– Где мы? Батюшки! Ни людей, ни строений. В степи выгрузили!
Время встало. Живы ли? Глухота.
– Ух – порыв ветра в лицо и грудь. Ледяной. Со снегом.
– Ах, Мария унд Йезус!
Вздрогнули – лязг железный. Их поезд тронулся. Зачем? Сейчас бы в вагоны, к железным печкам! Ещё вчера вечером было так хорошо, уютно, так угрелись.
– Постойте! А мы?
А вагоны мимо. Тёмные, с угретыми местечками. Как родные дома – в никуда. Навсегда. Какое сиротство! Эшелон ушёл, как жизнь. Снова ветер и глушь. А за путями-то не степь – фонарь горит, башня водонапорная. Ещё дальше пакгаузы. Окраина какой-то станции, но далё-ё-кая окраина.
Отупение. Холод.
– Чего ждём?
– Кома-а-нды, – кто-то очень жалобно.
– А где командиры?
Нет командиров. Во! Вчера ещё было полно сопровождающих! Где они?
– С поездом уехали! Нас бросили! В ночи, в степи!
Не бывало такого – страшно!
– А может нас специально – чтоб замёрзли?!
– Неужто! Невозможно.
– Всё возможно!
Мамочка, где ты? Знаешь, как мне плохо!
Четыреста человек топчется – снег стонет. Отупение. Ветер опять порывами.
Прожигает пальто.
– Мама, я замерзаю!
Сколько прошло – неизвестно.
– Женщины, да пойдёмте же на станцию!
– А где станция?
– Да вон же!
– Нельзя. Не велено. Засу-у-удят!
Опять молчание. И снег меньше скрипит – утоптали.
– Как хотите, а я пойду, – это та девушка в красивом пальто, что спрашивала, нет ли кого из Москвы – Ольга Цицер.
Толпа распалась. Потянулась от неё человеческая струйка к башне, к складам. А следом всё новые и новые решаются. Потом в самых робких страх наказания пересиливается страхом остаться одним. С ними и Мария с тётей Эммой и Эмилией двинулись.
Кажется, светает. Снег белее стал. Похоже, на дорогу вышли – следы от колёс. Три точки вдалеке. Движутся навстречу. Надежда. Будь что будет, но не одни на свете. Ближе – двое верхом и санная упряжка.
– Эй! Вы немки? С поезда?
– С поезда.
– А чего прётесь? Сказано же – на путях обождать, – военный встал из саней – из их поезда.
– Никто ничего не говорил.
– Ишь растянулись на версту. Стой! Подравняйсь!
Спешились, пошли вдоль строя. Считают. Назад идут, опять считают. Не сходится что ли? Ну, давайте же быстрей. Замёрзли до смерти! Всё! Кажется, садятся. В санях на коленках опять бумаги подписывают. Ещё раз, значит, их сдали и приняли. Пошли. Наконец-то утро. Край неба забелел. А ветер бьёт. Идти далеко. Может, только через час пришли – город не город, село не село.
Ни рук, ни ног не чувствуют трудармейки.
Все ли дошли? А кто знает – не оглядывались. Наверное, все.
– Спросить, что ли, где мы?
– Товарищ военный! Это какой город?
– Какой надо!
– Военная тайна что ли?
Привели в баню. Выдали по куску какого-то мыла – нестерпимо вонючего. Никогда не видели такого. Приказ: обязательно вымыть им голову – от вшей.
В предбанниках раздевались партиями. Народу – не протолкнуться. А в помывочной вода – еле тёплая. Не только не согреешься – наоборот, все трясутся. И коленки поморожены, у тёти Эммы – пальцы на руках и ногах. Гусиным жиром бы смазать, да махровым полотенцем закутать.
Ага! Даст сейчас кто-то и гусиного жира, и полотенце махровое! А снаружи уже торопят: быстрей, быстрей, многим ещё надо помыться!
В предбаннике, кажется, холоднее, чем, когда заходили. Пар от мокрых тел поднимается. Зуб на зуб не попадает. Челюсти от дрожи сводит. Господи, и обсушиться нечем. Одежду – прямо на мокрое тело. И опять торопят. Не куда-нибудь – на улицу, на мороз и жгучий ветер.
– Стройся!
А как строиться? Никогда не строились. Большинство – колхозницы. Из Энгельса и Марксштадта9, конечно, немало, но и они на заводах, да в учреждения никогда не строились, а в Сибири тем более – всех тянет в кучу, а не в ряд.
– Не толпись, не толпись! В ряд становись! Эх, бестолковые бабы!
Двое военных кое-как построили женщин.
– Налево!
Налево – это куда? Одни в одну сторону повернулись, другие в другую…
– Линкс, Эмма-танте10.
– Вот именно! Линкс! Шагом марш!
Пошли. Хоть трудовая, но всё же армия. Только жалкая армия: солдаты её в пимах, платками повязаны по самые брови, да ещё и носы норовят спрятать; кто в чём: в старых и не очень старых пальто, в ватниках, а кто и в тулупе, правда одна в щегольском пальто. Красивая, стройная, голову высоко держит – та, что про Москву спрашивала…
Мешочки за плечами: а что там – много ведь не утащишь! Как там в приказе о мобилизации было сказано: явиться в исправной зимней одежде с запасом белья, постельными принадлежностями, кружкой, ложкой и 10-дневным запасом продовольствия.
Ведут в город. А может и не город вовсе, а большое село. Барак рубленный. Над входом: «Столовая». Один военный встаёт в строй посередине растопыривает руки, другой командует: «Передние, заходи!».
Остальные остаются, топчутся на морозе.
Народу много. Вдоль окон в два ряда столы, столы, столы. В углу слева три раздаточных стола. На среднем алюминиевый бак. Над ним пар. Три женщины разливают в алюминиевые миски. Трудармейки подходят, не раздеваясь, затылок в затылок. Раздатчицы наливают почти полную миску. Дальше отдельный стол. С него дают кусочек хлеба – чёрного, как смоль. Суп горячий – радость для намёрзшегося организма, но почти пустой: несколько картошинок на дне, да немногочисленные листочки капусты гоняются друг за другом.
– Lauder Wasser, lauder Wasser!11 – говорит высокая пожилая женщина.
Едят долго, приятное тепло растекается по телу, добирается до самых ступней. У кого-то даже испарина на лбу. Хлеб, такой чёрный, но вкусный: сладкий, сладкий. Мало только. Не удержались – достают из мешков сухари от десятидневного-то запаса – что в поезде не съели. Но пора и честь знать – снаружи подруги по несчастью мёрзнут.
Сдают миски на крайний стол. Тянутся к выходу, навстречу свои – замёрзшие – уже идут вдоль раздаточных столов:
– Лаудер вассер! Лаудер вассер! – встречает их одна их раздатчиц – она уже выучила новое выражение и ей весело повторять необычные слова.
Согрелись, но голод остался – только слегка утишили его.
Тучи между тем разошлись, выглянуло низкое зимнее солнце.
Дождались своих. Опять команда строиться – в две шеренги.
– Направо!
Повернули направо.
– Шагом марш!
Пошли – уже из города… Или из села – кто знает!
– А куда идем?
– Куда надо, туда и идём!
– Далеко хоть идти?
– Недалече, девяносто километров. Дня за три – четыре дойдем.
– А вы с нами?
– Так точно! Доведём и сдадим, как положено – в полном составе.
– Да ладно, старшина, тайны-то нету. В село Отважное идем. Нефтепровод будете строить.
– Отважное, это где?
– Жигули? Слышали?
Жигули!!! Господи! Это же почти рядом! Там Куйбышев, потом Саратов, через Волгу – Энгельс, а между Куйбышевым и Саратовом Марксштадт – почти назад привезли!
Ольга Ивановна
В посёлок Отважный пришли только на четвёртый день к обеду. Посёлок строился. Проходили мимо каких-то котлованов, каркасов, ждущих обшивки и засыпанных опилками и стружками; рубленных и кирпичных строений.
Пустыри, бараки, за ними двухэтажные дома – наверное центр посёлка. Потом деревенские дома села Отважное. А дальше на севере надо всем этим возвышались заснеженные горы – с лесом и без него. Они казались громадными, а домики у подножья сказочно крохотными – для гномиков, а не для людей. В просветах между горами блестел лёд Волги.
Привели их, наконец к рубленным баракам, по виду довольно новым, но построенный наспех, для временного проживания.
Бараков было четыре. Трудармейцы построились на площадке или пустыре между ними. Явилась откуда-то женщина в тулупе, тёплой шали и вязанных варежках. Сопровождавшие военные опять выкликали их по списку, и они делали два шага вперёд. Женщина крыжила их в своих бумагах карандашом. Открыжив сотню, скомандовала:
– В первый барак.
Открыжив вторую:
– Во второй барак.
Марии и те, кто был ей знаком ещё по поезду, попали в последний четвёртый барак.
Вход в барак был точно посередине. Из тамбура двери вели налево и направо в две длинные комнаты. У входа стояла печь с железной трубой. Вдоль стен двухэтажные нары. Разобрали места. Марии досталось верхнее место. Снизу устроилась тётя Эмма. Слева от неё на верхних нарах Эмилия, а справа – сверху и снизу сёстры Шульдайс.
Вскоре за ними пришла женщина и повела обедать. Столовая – такой же длинный барак, только вдоль стен не нары, а столы и скамейки.
На обед дали суп, с несколькими крохотными кусочками какой-то рыбы. На второе – кашу из крупы, происхождение которой было сложно определить.
Вернулись в свой барак. Тётя Эмма расположилась поспать. Эмилия, порывшись в вещевом мешке, достала гребень, распустила косу и принялась расчёсывать густые золотого цвета волосы.
Вдруг хлопнула дверь и в комнату вошла женщина, которая принимала их на площади. Увидев Эмилию, замерла удивлённо и сказала:
– Рапунцель! Живая Рапунцель12!
Но, спохватившись, сказала уже громко и властно:
– Слушай сюда, девчата! Я начальник вашей колонны Ольга Ивановна Зоммер. Вы прибыли в распоряжение строительно-монтажного управления № 3, трест «Востокнефтестрой». Вы будете копать траншею для нефтепровода. Дисциплина военная. Подъём в шесть часов. В семь пятнадцать завтрак в столовой, где вы только что были. В семь тридцать идёте получать кирку, лом и лопату. В восемь часов – начало рабочего дня. Обед – полчаса: в тринадцать до тринадцать тридцать. Конец рабочего дня в девятнадцать. С девятнадцать до девятнадцать тридцать – ужин. Там же в столовой будете получать хлеб на завтра. Кто выполняет норма, получает шестьсот грамм, кто не выполняет четыреста.
– А норма какая? – спросил кто-то.
– Норма четыре кубометра. Невыполнение приказа, невыход на работу: сначала карцер. Я вам, девчата, не советую туда попадать. Так что слушаться обязательно. Если карцер не будет помогать: суд и тюрьма. Поняли меня?
– Поняли.
– Ещё есть для меня вопросы?
– Есть, – сказала Ольга Цицер. – Вы работали в Марксштадском кантоне?
– Я много где работала.
– Вы не были в тридцать втором и тридцать третьем годах уполномоченной по коллективизации?
– Я тебе не обязана рассказывать, где я работала.
– А всё-таки…
– А всё-таки, ты будешь первая, кто узнает, что такое карцер. Как твоя фамилия?
– Цицер Ольга Георгиевна.
– Сейчас за тобой придут.
– У меня ещё просьба есть. Не называйте нас девчатами! Какие мы вам девчата?! Здесь есть женщины намного старше вас. Учтите.
Ольга Ивановна повернулась и выбежала вон, хлопнув дверью. За Ольгой, действительно, вскоре пришли. Вернулась она через трое суток.
Валенки
Конец сентября. Медленно течёт за огородами навстречу великой Волге речка Караман. Где-то там, за Волгой, скатывается в тучи красное солнце. По-осеннему холодный воздух толкается в открытую дверь летней кухни. Мерно и убаюкивающе гудит ручной сепаратор. Это мать перегоняет надоенное молоко. У двери сидит серый полосатый кот Мурре, довольно облизывая усы. Потом начинает умываться. Отбился, бродяга, от дома, но вечером исправно приходит получить вечернее молоко.
Мария с отцом только что приехали с бахчи. В руках у неё корзинка с паслёном. Собирать паслён её любимое занятие. В этом году его видимо-невидимо.
Отец переносит с телеги в амбар жёлтые тыквы. В амбаре заработанное отцом и матерью на трудодни зерно. В зерне уже закопаны дыни и арбузы. Тыквы отец закапывает туда же – это лучший способ сохранить бахчевые деликатесы до зимы. Последнюю – самую большую тыкву – отец вкатывает в летнюю кухню.
– Смотри, какая! – говорит он матери. – Не поднимешь – больше тележного колеса! – отец любит преувеличивать.
Тыква перекатывается через порог и сотрясает пол. Звенит посуда в шкафу. Мурре порскает под стол, испуганно оглядываясь, и бросая оттуда из глаз своих тревожные жёлто-зелёные огни, потом, набравшись смелости и прижав уши, осторожно на полусогнутых лапках выбирается из кухни, в ужасе косясь на тыкву. Прокравшись мимо неё, пускается стрелой и одним махом перепрыгивает через соседский забор. Смотри, разбойник, Соломон Кондратьевич уже обещал прибить тебя за украденных цыплят! С весны троих за тобой числит!
Мать заканчивает сепарировать. Отец опять уходит в амбар. Сепаратор продолжает по инерции петь свою грустную вечернюю песню, всё тише, тише, наконец смолкает.
Паслён постоит до завтра – ничего ему не сделается. Завтра рассыпят его на противнях, поставят на плиту в летней кухне и будут сушить. Зимой паслён распарят в воде, загустят крахмалом, добавят сахара, и мать испечёт пироги (шварцбернкухе13). Вытопит печь, посадит их на деревянной лопате на под, закроет заслонкой. Запах тогда! Какое счастье, когда в доме пахнет пирогами. А какое Рождество без шварцбернкухе, криммелькухе14 и кирбискухе15!
Мария берёт ведро с обратом, мать кастрюльку со сливками, идут в дом. Сумерки. В доме прохладно. Старая бабушка уже спит в своей комнатке.
Включают свет на кухне. Отец приносит большущий арбуз. Он светится от удовольствия, что сможет потешить любимую дочь.
– Таких у нас ещё не было, послушай, как звенит, – он щёлкает по полосатому боку, – дай-ка нож!
Нож едва пробивает корку, и раздаётся треск. Трещина бежит впереди лезвия.
– Хорош! – говорит отец, любуясь на качающиеся на столе половинки, с блестящими на срезе крупинками сахара. – Попробуй, – говорит он и отрезает огромный ломоть.
– Ой, как вку-усно! – Мария стонет от удовольствия и от саднящего зубы холода, а отец просто счастлив.
Арбуз необыкновенно сладкий. Хотя у отца они все самые вкусные и прежде не бывалые, на этот раз он прав – Мария такого ещё не ела. А вот с хлебушком! Семечки в ладонь, потом на тарелку. Отец вырезает самый лучший кусочек – сахаристую сердцевину – и подаёт дочери. Мария переполнена сладким холодом, от которого начинается приятный озноб. Она прыгает в постель. Сейчас свернётся калачиком, подберёт коленки к подбородку, угреется… Как здорово засыпать, угревшись. А послезавтра пойдёт в Марксштадт, в педучилище с однокурсниками – Сашкой Мулем и Эрной Дорн. Соседка её – Милька Бахман – тоже ходит с ними, но в техникум механизации.
И вот уже перенеслась Мария в предвыпускной май и видит залитый утренним солнцем класс, и Genosse16 Нагель, щурясь в потоке весёлого света, рассказывает им о методике преподавания пения в начальных классах. Для примера приводит песню, со словами о Ворошилове:
Genosse Woroschilow
Führt vom Sieg zum Sieg…17
– Genosse Муль, повторите, – говорит он Сашке, который для Марии никакой не геноссе, а просто сосед по парте и друг детства.
Высокий, худой Сашка встаёт и повторяет: «Геноссе Ворошилов…», упирая на звук «и».
– Nein, nein, Genosse Muhl! Nicht Woroschilow! Sie wissen doch die Regel18: «-жи, -ши пишется через «и». Слышится «ы», а пишется «и». Noch einmal!19
– Геноссе Ворощи-и-илов…
–Verstehen Sie doch, Genosse Muhl!20, – Нагель подходит к Сашке, – Пишется Ворощи-и-илов, а произносится Ворош-ы-лов. Voll den Mund!21 Сашка будто не понимает и настаивает на своём варианте. Геноссе Нагель краснеет. На лице выступает пот.
Наконец, с пятого или шестого раза геноссе Нагель добивается нужного произношения.
– Ах, геноссе Муль, геноссе Муль… – говорит он, вытирая платком полное лицо.
– Ах, геноссе Нагель, геноссе Нагель, – отвечает Сашка, обнимая учителя за плечи. – Der Kaul hat vier Stolper, aber bet´ doch22.
Сейчас можно и пофамильярничать – через месяц выпуск. А за ним целая жизнь – яркая, как этот майский солнечный свет…
Но почему же никак не согреться?! И это солнце её, Марию, сегодня не греет. Что-то случилось страшное – от солнца не тепло, а жуткий холод. Он властвует, становится всё сильней, достаёт повсюду, вот уже он пробирается к ногам… И ещё что-то тревожит Марию: какой-то отвратительный запах. У них в доме никогда такого не было! Она просыпается и вываливается из счастливого сна в ужасное настоящее.
Уже две недели она в селе Отважном, вернее, в посёлке нефтяников того же названия. Трудармейцы копают траншею под нефтепровод. Живут в бревенчатом бараке.
Ночь. Сквозь маленькие окна светит луна. Саму луну не видно, она разбилась во льду замёрзших стёкол на множество разноцветных огоньков и освещает два ряда толстых столбов. Каждый столб – это четыре лежанки, сбитые из досок: две снизу и две сверху на раскосах. Марии приходит в голову, что также в плацкартном вагоне расположены места в смежных купе – два нижних и два верхних. Только в вагоне между ними стенка, а здесь ничего нет, и вши с одной головы свободно путешествуют на соседнюю.
В бараке спит человек сто женщин, может чуть больше – три бригады. Кто храпит, кто стонет, кто бормочет во сне. В конце барака большая печь с железной трубой, которая тянется под потолком к середине барака, и переломившись коленом, выходит через потолок наружу.
На каменные стенки печи, как солдаты на приступ, карабкается 100 с лишним пар валенок. Они сушатся с вечера, и, наверное, один из них коснулся плиты или дверки – от этого и разбудивший Марию запах горелой шерсти. Дрова в печи догорели, и в бараке холодно. Никому не хочется скинуть злосчастный валенок, ведь тогда надо вылезать из-под шуб, пальто и разных тряпок. И каждая надеется, что валенок не её, и жадно старается сохранить тепло под жалкими укрывками, чтобы завтра хватило его, не выдуло без остатка лютым ветром, не выжало морозом. А Мария потеряла уйму этого драгоценного тепла. Во сне её пальто сползло, и ноги вылезли из-под шали. Она поправляет всё это, натягивает пальто поверх головы, оставляя для дыхания узкую щель у самого носа.
«Мамочка, как мне плохо, как всё болит и какие кровавые мозоли у меня на руках. Я ещё ни разу не выполнила норму и получаю только 400 граммов хлеба. И ем я из первого котла. Ты даже не знаешь, что это значит, есть из первого котла. Если бы ты знала, как мало еды дают мне из этого котла! Как хочется есть! Ей становится отчаянно жаль себя. Она плачет – тихо, чтобы никого не разбудить. Она понимает, что это плохо, надо спать, что сон такая же ценность, как хлеб и тепло, но ничего не может с собой поделать. Лицо и руки становятся мокрыми, от слёз замерзают щёки и нос, втягивающий наружный воздух. «Мамочка, если бы ты знала, как прав был Йешка. Он ничуточки, ничуточки не соврал. Здесь все хотят есть, а я больше всех».
Потихоньку она опять согревается, успокаивается, и приходит тупой тяжёлый сон на этот раз без сновидений.
Она просыпается от резких металлических ударов. Уже горит свет, и бригадир Фрида Кёниг кричит:
– Подъём, подъём! Вставайте!
Мария встаёт, сразу надевает пальто, чтобы не выпустить из него ночное тепло. С ужасом смотрит на свои руки. Как такими руками долбить киркой смёрзшуюся в камень землю!
Снизу на нарах тётя Эмма. Она замечает, как Мария разглядывает свои руки.
–Allmächtiger Gott! Geb mol dej Hände23, – Lieber Gott24! Ты же без рук останешься! – говорит она, доставая из своих многочисленных карманов платочки разных размеров. – Setz dich doch25! – приказывает она, видя, как Мария переступает с ноги на ногу на ледяном полу. Она перевязывает Марии руки, да так ловко – повязки не съезжают, и надёжно прикрывают растёртые места.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
вейс – у немцев Поволжья почтительное обращение к пожилым женщинам
2
суп из подрумяненной на сковороде муки (диалект нем. Поволжья)
3
из села Орловскóе, названного так в честь Григория Орлова.
4
Это я (диалект поволжских немцев)
5
Всемогущий Бог, что стряслось? (диалект поволжских немцев)
6
Господи Иисусе! Милиция! (диалект поволжских немцев)
7
Пушкин «Евгений Онегин»
8
Мария! Это ты?!
9
Марксштадт – так до 1942 года назывался город Маркс.
10
Тётя (нем.).
11
Одна вода (нем.)
12
Девушка с длинной золотой косой – персонаж сказки братьев Гримм
13
паслёновый пирог (нем.)
14
пирог со сладкой присыпкой из муки (нем.)
15
тыквенный пирог (нем.)
16
Товарищ (нем).
17
Товарищ Ворошилов ведёт от победы к победе (нем)
18
Нет, нет, товарищ Муль, не Ворошилов! Вы же знаете правило… (нем.)
19
Ещё раз! (нем.)
20
Поймите же, товарищ Муль… (нем.)
21
Полным ртом! (нем.)
22
Der Kaul hat vier Bej, aber stolpert doch. – Конь и о четырёх ногах спотыкается (диалект немцев Поволжья). Игра слов: Муль поменял существительное на глагол и глагол на существительное, получилась: «У коня четыре спотыкалки, а он всё равно молится».
23
Всемогущий Боже! Дай-ка свои руки (нем.)
24
Милый Боженька (нем.)
25
Садись же! (диалект немцев Поволжья)

