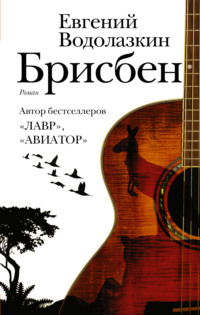
Брисбен

Евгений Германович Водолазкин
Брисбен
Роман
© Водолазкин Е.Г.
© ООО «Издательство АСТ»
Близким
There is a reason to imagine that a continent,
or land of great extent, may be found
to the southward of the track of former navigators.
James Cook, 1769[1]25.04.12, Париж – Петербург
Выступая в парижскойОлимпии, не могу сыграть тремоло. Точнее, играю, но нечетко, нечисто – так, как это делают начинающие гитаристы, издающие глухое бульканье вместо нот. Никто ничего не замечает, и Олимпия взрывается овациями. Я и сам забываю о своей неудаче, но, садясь под крики поклонников в лимузин, ловлю себя на характерном движении пальцев. Правая рука, словно искупая допущенную ошибку, исполняет теперь уже не нужное тремоло. Пальцы двигаются с невероятной скоростью. Касаются воображаемых струн. Так ножницы парикмахера, оторвавшись на мгновение от волос, продолжают стричь воздух. Подъезжая к аэропорту имени Шарля де Голля, выстукиваю неудачно сыгранную мелодию на стекле – ничего сложного. Как я мог запнуться на концерте?
Из Парижа лечу на съемки клипа в Петербург. Сосед по креслу пристегивает ремень. Поворачивает голову и замирает. Узнал.
– Вы – Глеб Яновский?
Киваю.
– Сергей Нестеров, – сосед протягивает руку. – Писатель. Публикуюсь под псевдонимом Нестор.
Вяло пожимаю руку Нестора. Вполуха его слушаю. Нестор, оказывается, возвращается с Парижского книжного салона. Судя по запаху из его рта, на салоне были представлены не только книги. Да и у писателя не чеховский вид: оттопыренные уши, седловидный, с крупными ноздрями нос и никакого пенсне. Нестор вручает мне свою визитную карточку. Засовываю ее в бумажник и прикрываю глаза.
Нестор – мне, спящему:
– Мои вещи вряд ли вам известны…
– Только одна, – не открываю глаз. –Повесть временных лет.
Он улыбается.
– Что ж, это – лучшее.
Я, собственно, тоже пишу. Дневник – не дневник – так, изредка делаю записи, дома по вечерам или в аэропортах. Потом теряю. Недавно как раз в аэропорту и потерял. Исписанные кириллицей листы – кто их вернет? Да и нужно ли?
Самолет выруливает на взлетную полосу, приостанавливается, но мотор тут же резко увеличивает обороты. Рыча и сотрясаясь от нетерпения, машина в одно мгновение набирает скорость. Так ведет себя на охоте хищник – дрожит, поводит хвостом. Не сразу вспоминаю, кто именно. Кто-то из семейства кошачьих – какой-нибудь, допустим, гепард. Хороший образ. Охота на пространство, отделяющее Париж от Петербурга. Самолет отрывается от земли. Наклонив крыло, совершает прощальный круг над Парижем. Чувствую, что начинаю засыпать.
Просыпаюсь от тряски, сопровождаемой объявлением о зоне турбулентности. Просьба ко всем – пристегнуть ремни безопасности. А я только что отстегнул. Даже ремень на брюках ослабил – жмет. Подходит стюардесса с просьбой пристегнуться. Говорю ей, что не люблю ремней – ни в машинах, ни в самолетах. Не для свободного человека приспособление. Девушка не верит, ведет себя в высшей степени кокетливо и на все мои доводы отвечает короткимвау. Ей искренне жаль, что такой замечательный артист летит непристегнутым.
Прекращая беседу, демонстративно поворачиваюсь к Нестору. Спрашиваю, тяжело ли писать книги. Нестор (спал пьяным сном) бормочет, что не тяжелее, чем играть на гитаре. Стюардесса не выражает ни малейшего раздражения, ясно ведь: звезда капризничает. Уж так им, звездам, положено. Грозит в шутку пальцем и уходит. Провожая ее взглядом, Нестор неожиданно говорит:
– Сейчас вдруг подумал… Я мог бы написать о вас книгу. Вы мне интересны.
– Спасибо.
– Вы мне рассказали бы о себе, а я бы написал.
Обдумываю предложение минуту или две.
– Не знаю, что и ответить… Обо мне есть уже несколько книг. По-своему неплохие, но все как-то мимо. Понимания нет.
– Музыкального?
– Скорее, человеческого… Я бы сказал так: нет понимания того, что музыкальное проистекает из человеческого.
Нестор тщательно обдумывает сказанное. Вывод – неожиданный:
– Я думаю, моя книга вам понравится.
Алкогольный выдох как предложение верить. Становится смешно.
– В самом деле? Почему?
– Потому что я хороший писатель. Нескромно, конечно…
– Есть немного. А с другой стороны – чего уж тут скромничать, если хороший. – Выстукиваю тремоло на подлокотнике кресла. – Валяйте, пишите.
Ритмичный стук напоминает мне, как сорок с лишним лет назад в Киеве выстукивал ритм Федор, мой отец, проверяя музыкальный слух сына. Чем не начало для книги? Поворачиваюсь к Нестору и кратко информирую его о самом первом моем экзамене, воспроизвожу даже предложенное тогда задание. Я с ним тогда не справился. Нестор, улыбаясь, стучит пальцами по подлокотнику. Он тоже проваливает экзамен.
1971
Накануне первого дня учебы Глеб сидел перед Федором и, наблюдая за его длинными пальцами, пытался воспроизвести ритм. За окном трезвонили, поворачивая, трамваи. В ответ кротко звякала в буфете посуда. Потом Федор спел что-то и попросил повторить. Мелодию повторить не удалось – только слова: паба-паба, паба-паба, паба-па… Не ахти какие слова – не скажешь, что проникновенные, да и запомнились они единственно потому, что напоминали словопапа. Впрочем, Федор просил называть его по-украински – тато. Мало кто в Киеве так называл отцов. С Глебом и женой Ириной Федор не жил уже несколько лет: Ирина от него ушла. Вернее, ушел-то как раз Федор, которого Ирина попросила покинуть их жилье в семейном общежитии. Будучи изгнан, он снял комнату в другой части города и, имея диплом музучилища, устроился преподавать в музыкальной школе скрипку. Некоторое время после развода пил, предпочитая дешевые изделия вроде 72-го портвейна или Букета Молдавии. Крепких напитков не любил. Если уж пил водку, то, наполнив рюмку, делал это не сразу – несколько раз подносил к глазам, ко рту. Несколько раз выдыхал. Затем зажимал пальцами нос и вливал огненную воду в широко открытый рот. Бывшая жена считала это пьянство показным, поскольку протекало оно преимущественно на виду у тех, кто мог Ирине о нем рассказать. В одном из редких разговоров с бывшим мужем такое поведение Ирина назвала детским. Не переходя на русский, Федор возразил ей, что определение не выдерживает критики, поскольку дети, по его представлениям, не пьют. Логика была на его стороне, но вернуть Ирину это не помогло. Года три-четыре спустя, когда Федору стало окончательно ясно, что жена не вернется, пьянство прекратилось. Ирина позволяла отцу навещать Глеба, но радости от этих посещений не испытывала. Строго говоря, не испытывал их и сам Глеб. Взяв мальчика на прогулку, Федор по большей части молчал или читал наизусть стихи, что для Глеба в каком-то смысле было хуже молчания. Порой, когда в конце прогулки Глеб уставал, Федор брал его на руки. Их глаза оказывались тогда на одном уровне, и сын рассматривал отца немигающим детским взглядом. Под этим взглядом в карих глазах Федора появлялись слёзы. Одна за другой они скатывались по щекам и навеки исчезали в пышных усах. Несмотря на очевидную трезвость в начале прогулки, к концу ее Федор непостижимым образом оказывался навеселе. Сидя на руках у отца, Глеб различал запах дешевого вина. С этим запахом в памяти мальчика прочно соединились отцовские слёзы. Может быть, они и в самом деле так пахли – кто изучал запах слез? Когда без пяти минут первоклассник Глеб заявил о своем желании учиться играть на гитаре, Ирина сама привела его к Федору. Сидела в углу и молча следила за тем, как, повторяя напетое отцом, Глеб не попадал в тональность. Глiб… Федор налил себе полстакана вина и выпил в три глотка. Глiб, дитя моє, ти не створений[2] для музики. Папа, не пей, попросил по-русски Глеб. Отец налил еще полстакана и сказал: п’ю, бо ти не створений для музики – перший з музичного роду Яновських. Заметил лежащую на столе хлебную корку и поднес ее к носу: прикро! Что такое прыкро, спросил Глеб. Прыкро – это досадно, сказала Ирина. Да, досадно, подтвердил Федор. Не проронив больше ни слова, мать взяла сына за руку и вывела из комнаты. На следующий день они пошли записываться в ближайшую музыкальную школу. Там Глеба тоже попросили повторить ритмическую фразу и пропетую мелодию. Волнуясь, мальчик выполнил задание еще хуже, чем накануне, но это никого не обескуражило. Неожиданность подстерегала Глеба в другом: его рука оказалась слишком мала для гитарного грифа. Потому в музыкальную школу его предложили принять по классу четырехструнной домры – до тех, по крайней мере, пор, пока не вырастет его рука. Ирина, явно растерянная, спросила, почему речь идет именно о четырехструнной домре. Ей ответили, что есть, конечно, и трехструнная домра, но типично украинской (гитару в руках Глеба заменили на домру) является все-таки четырехструнная. Гриф домры пальцы мальчика обхватывали без напряжения. Ирину также попросили не путать обе домры с восточной домброй и даже собирались объяснить разницу между ними, но этого она не захотела слушать. Хотела было спросить, отчего это нельзя подобрать для Глеба гитару меньших размеров; спросить, не обманом ли суют ее сына туда, куда добровольно никто не идет, но – промолчала. Встав, просто взяла Глеба за руку. Другая его рука все еще держала домру. Ирина показала взглядом, что инструмент можно положить, но Глеб этого не сделал. Ты хочешь играть на четырехструнной домре, поинтересовалась она. Хочу, ответил мальчик. Это решило дело, потому что мать старалась ему лишний раз не отказывать. В музыкальную школу его записали по классу домры. Тогда же Глеб пошел и в обычную школу. Он навсегда запомнил цвета, запахи и звуки, явленные ему 1 сентября 1971 года, потому что в тот день его чувства резко обострились. Запах только что поглаженной школьной формы – коричневой, с кинжальными стрелками на брюках. Цвет и стрелки были тем, что, казалось Глебу, рождало этот запах. Точно так же, как запах болоньевой куртки возникал из водонепроницаемых свойств материала. При первом же дожде материал оказался проницаемым, но на память о запахе это никак не повлияло. Это была первая болоньевая куртка Глеба, носившего до того только пальто. Теплый сентябрьский день не требовал куртки, но мальчику очень хотелось прийти именно в ней, хотя мать была против. Спустя годы, рассматривая свою первую школьную фотографию, Глеб Яновский нашел эту куртку на редкость бесформенной. Он так и не смог понять, чем именно изделие тогда ему нравилось. Может быть, оно опьяняло его своим запахом, как хищное растение пьянит насекомых. Как бы то ни было, 1 сентября мать, как всегда, пошла ему навстречу. Помогла надеть куртку и ранец. Посоветовала лишь куртку не застегивать. Ранец пах кожей, и еще водой и маслом, и ядовитой пластмассой пенала, в котором громыхали ручки и карандаши. При спокойном движении мальчика громыхание было умеренным, но когда он переходил на бег, звук многократно усиливался. Отбивавшийся четкий ритм напоминал оркестровую погремушку мараку. Будучи уже постарше, мальчик задавался вопросом: где учатся игре на мараке – неужели в музыкальной школе есть класс мараки, подобно классу скрипки или фортепиано? И не находил ответа, потому что не было такого класса. Так вот, ранец, школа. По желанию отца Глеба отдали в школу, где обучали на украинском языке. Мать не возражала. Она почти никогда не возражала. Зная ее способность примиряться с обстоятельствами, можно было бы удивиться тому, что ей хватило характера расстаться с мужем. Удивительным, однако, было скорее то, что они с ним сошлись. Федор был родом из Каменца-Подольского, а Ирина – из Вологды, оба в свое время учились в Киевском институте гражданской авиации, и оба попали туда случайно. Ирина – после неудачной попытки поступить в театральный, Федор – в консерваторию. Так они получили возможность остаться в большом городе. Гражданской авиацией не интересовались ни в малейшей степени. Это была одна из немногих вещей, которая их объединяла. В остальном же они говорили на разных языках в прямом и переносном смысле. Считается, что несходство рождает влечение, и это справедливо – но только на первых порах. Да, темноволосого южанина Федора притягивала северная красота Ирины. Эта красота была как туман в кратком утреннем безветрии, как сон царевны, который соблазнительно нарушить, была тихим прудом, по которому хочется, чтобы пошли круги. На Ирину же производила впечатление неизменная задумчивость Федора, намекавшая на опыт и мудрость. Она с удовольствием вслушивалась в произносимые им украинские слова и каждую минуту требовала перевода. Но то, что разогревало чувства в первые годы, с течением времени в глазах Ирины обратилось в свою противоположность. Задумчивость Федора стала казаться ей угрюмостью, мудрость являлась не с той частотой, на какую она рассчитывала, а непонятные слова красивого, но чужого языка начинали вызывать раздражение. Она уже не спрашивала их перевода, дожидаясь, когда Федор догадается сделать это сам. Ирина могла бы заставить его перейти на русский (в ответственных случаях он так и поступал), но в произношении Федора родной язык казался ей чудовищным. А в постели, слыша его русские слова, она смеялась, как от щекотки, отталкивала его и просила говорить только по-украински. А потом она ушла. Уже взрослым Глеб неоднократно слышал об иной причине развода – якобы легкомысленномповедении Ирины. В легкомыслие матери (что бы под ним ни подразумевалось) он, пожалуй, мог бы поверить, но развод с ним не связывал. Причина развода, как казалось ему, была глубже и в чем-то трагичнее. Произошедшее между родителями Глеб объяснял той особой задумчивостью, в которую отец время от времени впадал. Этой задумчивости мать, человек жизнерадостный, стала бояться. В такие минуты Глеб также чувствовал себя неуютно. Отец словно проваливался в глубокий колодец и созерцал оттуда звёзды, видимые только ему, – даже днем, такова оптика колодцев. Когда Ирина ушла, всю полноту чувств Федора ощутила скрипка. Обычно он играл наедине с собой. Эту игру Глеб однажды слышал, когда с разрешения матери остался ночевать у отца. Рано утром, чтобы не будить мальчика, Федор играл, закрывшись в ванной. Включив к тому же воду, чтобы заглушить звуки скрипки. Эти звуки, смешанные с шумом воды, потрясли Глеба до глубины души. В 2003 году он записал несколько композиций, где на фоне шума воды звучит гитара, и это было воспоминанием об игре отца. Когда он их записывал, у него возникла вдруг мысль, что на самом деле воду отец тогда включил, чтобы спокойно повеситься. Когда Глеб закончил записывать композиции с дождем, ему сказали, что на них лежит отблеск отчаяния. Глеб ничего не ответил. Он помнил особое выражение глаз отца, которое только и можно было определить как отчаяние. Что же в действительности тогда происходило? Была ли Ирина легкомысленной? Скорее – легко всё воспринимающей, отдающей явное предпочтение солнечной стороне жизни. И не склонной особо вникать в ее теневые стороны. Она часто повторяла, что хотела бы жить в Австралии – почему-то эта страна казалась ей воплощением беззаботности. В шутку просила, чтобы нашли ей мужа-австралийца, с которым они могли бы путешествовать по всему миру. В одном из таких разговоров Глеб впервые услышал слово Брисбен. Говоря о городе своей мечты, мать назвала Брисбен. Когда ее спросили, почему именно этот город, ответила просто: красиво звучит. Ответ показался смешным – всем, кроме Глеба. Брисбен. Город легко присоединился к Зурбагану, Гель-Гью и Лиссу, о которых мальчик читал у Александра Грина. Глеб тогда спросил у матери, возьмет ли она его с собой в Брисбен. Конечно, возьмет. Мать поцеловала его в лоб. Как она может его не взять? Придет время, и они будут жить в Брисбене. Годы спустя, когда Глеб уже заканчивал школу, Ирина на сэкономленные деньги хотела купить себе путевку в Австралию. Ее вызвали на парткомовскую комиссию, которая должна была разрешить ей поездку, точнее, как выяснилось, – не разрешить. Она не была членом коммунистической партии, так что вопрос, отчего все решалось партийным комитетом, остается открытым. Ей предложили поименно назвать членов политбюро, поинтересовались, о чем шла речь на последнем съезде компартии, и попросили перечислить основные преимущества социалистического строя перед капиталистическим. Она ответила на первое, на второе и даже на третье. Третье представлялось ей самым сложным, но она справилась и с этим, потому что готовилась тщательнейшим образом. И тогда Ирине был задан последний вопрос – неотразимый, как танковый залп. Ее спросили, видела ли она уже всё в СССР. На этот вопрос невозможно было ответить утвердительно – слишком уж велика была страна, в которой ей довелось родиться. Отрицательный же ответ подразумевал, что матери Глеба следует отложить поездку в Австралию до полного ознакомления с СССР – так, по крайней мере, казалось членам комиссии. В разрешении ей было отказано. Впрочем, отнеслась Ирина к этому легко; она почти ко всему так относилась. Может быть, благодаря именно этому качеству вскоре после развода получила комнату в коммуналке. Получила от конструкторского бюро, в которое ее распределили после учебы, как молодой специалист в области гражданской авиации. Отнесись она к такой возможности серьезно – ничего, наверное, ей бы не дали. С переездом из общежития в коммуналку в жизни Глеба изменилось многое. Прежде всего – появилась бабушка Антонина Павловна. Она приехала из Вологды подменять мать, то и дело уезжавшую в разных направлениях. Свое отсутствие мать объясняла командировками, причем всякая заканчивалась подарком Глебу. Подарки – чаще всего это были пластмассовые игрушки – тихо раскладывались на подушке спящего мальчика. Он не задумывался, почему мать любила именно такие игрушки, просто принимал их с благодарностью. Как натренированная на поиск собака, просыпался от чуть слышного пластмассового запаха, касавшегося его ноздрей, потому что это был запах радости. Открыв глаза, видел мать. Она сидела на табуретке у его кровати и улыбалась. Порой плакала: никогда ее возвращения не были делом обыденным. Отчего у тебя стало так много командировок, спросил однажды Глеб. Мать покраснела и не ответила. Бросила взгляд на бабушку, но та сделала вид, что ничего не заметила. Вытерла руки о передник – у нее всегда был этот спасительный жест. Когда мать ушла на работу, Глеб повторил свой вопрос бабушке. Антонина Павловна, помолчав, приложила палец к губам. Тс-с, сказала она Глебу, понимаешь, ей нужен рядом надежный человек, только где его найдешь? А папа, спросил Глеб, – он ненадежный? Папа… Бабушка вздохнула и развела руками. Между тем папа был очень рад, что Глеб играет на украинском народном инструменте, в особенности же – что сын выбрал его сам. Отсутствие слуха теперь не казалось Федору непреодолимым препятствием, – он высказывался даже в том духе, что абсолютный слух при игре на домре и не нужен. Для игры на скрипке, у которой нет ладов, он, да, желателен, но к инструментам, гриф которых разделен на лады, такое требование избыточно. К тому же слух, по мнению Федора, мог еще и развиться. (Якоюсь мірою[3], уточнял он.) В один из дней Федор повез Глеба в магазин музыкальных инструментов и предложил купить ему домру. Выбрать ее отец демонстративно предоставил сыну: разбираться в качествах двенадцатирублевых инструментов он считал ниже своего достоинства. Пробежавшись по магазину, Глеб остановился на самой темной из всех домр и принес ее отцу. Федор строго посмотрел на сына: у неï ж немає струн. Будь уважний[4], синку. После некоторого колебания отец взял одну из домр и провел большим пальцем по струнам. Поморщился от фанерного звука, напоминавшего звяканье игрушечной балалайки. Другая домра была такой же, и все остальные тоже. Выбрали, как и хотел Глеб, по цвету – не такую темную, как первая, но зато со струнами. Когда они вернулись, дома пахло приготовленным обедом. Останешься обедать с нами, спросил отца Глеб. Ні, ответил Федор. Мене ніхто й не запрошує. Что такое нэ запрошуе, полюбопытствовал мальчик. Не приглашает, глядя в глаза Федору, пояснила Ирина. Бабушка молча вытирала руки о передник. Ей казалось, что человека, еще недавно бывшего мужем ее дочери, следует пригласить.
18.07.12, Киев
Приехав на гастроли в Киев, посещаю отца. Он принимает меня доброжелательно, но без лишней суеты.
– Привiт, москалю. Що скажеш?
Улыбается. Улыбаюсь в ответ:
– Скажу: вливайтесь в империю!
На папиросную бумагу отец насыпает табак, скручивает ее и, проведя по ней языком, склеивает. Этого раньше не было.
– Нам цього не можна.
– Почему?
Он щелкает зажигалкой и выпускает первый клуб дыма.
– А ти, синку, подумай сам.
Входит Галина, вторая жена отца, испуганно мне кивает. Ставит перед мужем пепельницу и выходит.
– У меня какие-то сложности с правой рукой, – сгибаю и разгибаю пальцы. – Выступал в Париже – чуть не провалился.
– Грають не рукою – душею. Згадай[5] Паганiнi – вiн грав за будь-яких обставин[6].
Смотрит на меня с полуулыбкой.
– Одна струна у него все-таки была – это уже кое-что. А вот без руки, знаешь…
– Вiн зiграв би i зовсiм без струн, синку. I без руки б зiграв. – Подумав, отец добавляет: – А втiм[7] – пiди до лiкаря.
Да, возможно, схожу. Перед самым уходом почему-то вспоминаю о предложении литератора из Петербурга написать обо мне книгу. Рассказываю об этом отцу. Он пожимает плечами, и я уже жалею, что рассказал. Скручивает новую папиросу, закуривает.
– Музика – вона i в Петербурзi музика. Хай пише.
Выпущенный дым проделывает сальто-мортале – настолько же сложное, насколько медленное. С возрастом, кажется, и отец замедлился. Стал мягче. А может быть, равнодушнее.
– Тут не в музыке дело, – говорю. – Не музыку нужно описывать, а жизненный опыт музыканта. Это он потом становится музыкой или, там, литературой. Не знаю, поймет ли это писатель.
От отца до гостиницы иду пешком. Чтобы не узнавали, надвигаю на нос кепку – это лучше, чем солнцезащитные очки, которые привлекают внимание сами по себе. Дорога лежит через Ботанический сад. По боковой аллее дохожу до кафе, в котором мы с бабушкой ели мороженое. Кафе на месте, мороженое, по-видимому, тоже, а вот бабушки – нет. В каждый приезд прихожу на кладбище, где нас разделяет два метра грязно-рыжей глины.
Сажусь на скамейку и смотрю на кафе. У самых ног – белка. Стоит на задних лапках, передние молитвенно сложены на груди. Объясняю ей, что еды с собой не ношу, что мог бы, конечно, что-то купить и принести ей, но это так сложно… Слова бессильны. Хлопаю себя по карманам, чтобы белка видела: угостить мне ее нечем. Для наглядности достаю бумажник и даже его открываю. Есть в этом, безусловно, излишняя театральность. В смысле продуктов возможности бумажника никакие. Предел мечтаний – сыр в нарезке.
Замечаю визитку Нестора. Зачем я начал рассказывать ему о детстве? Зачем он всё это будет писать? Возникает мысль бросить визитку белке – пусть она ему позвонит. Напишет о белкиной жизни, разве она не интересна? Обо мне издано уже с полдюжины книг, а вот о белке, пожалуй, ни одной. Разве чтоПовести Белкина. Беру кусочек картона двумя пальцами, всё готово для полета. Медлю. В сущности, о моей жизни тоже – ни одной. О чем угодно писали, только не о жизни. М-да, есть о чем подумать… Кладу визитку обратно.
1972
Всю осень Глеб провел с Антониной Павловной. После школы они ходили в Ботанический сад, который находился прямо против дома. Ботаническим садом это сказочное место никто не называл, говорили –Ботаника. Там Глеб с бабушкой собирали букеты кленовых листьев, ярко-желтых и ярко-красных, – они стояли по всей комнате в молочных бутылках. Собирали шиповник, из которого бабушка заваривала чай. Сам по себе шиповник не слишком увлекателен, с чем-то таким она его смешивала, что делало вкус чая богаче. Но главный интерес чая состоял, конечно же, в том, что шиповник был собран своими руками. Это была открытая часть Ботаники, где позволялось собирать всё что угодно. Сад спускался с холма террасами, и на одной из террас водились белки. Точнее, водились-то они по всей Ботанике, но на этой террасе позволяли себя кормить. Брали еду прямо из рук. В кармане демисезонного пальто Антонина Павловна приносила для них лесные орехи. Пальто она купила в Киеве и слово демисезонное (видимо, услышав у кого-то) некоторое время произносила в нос, потом перестала. В остальном же по-вологодски окала: хорошо, молоко, мороженое. Да, мороженое: оно было главной радостью Ботаники, а днем его было воскресенье. Часов около двух бабушка с внуком приходили в открытое кафе, размещавшееся над выходом метро Университет. Всё здесь было круглым: выход метро, кафе, не говоря уже о шариках мороженого – они просто не могли быть другими. Их подавали в пластмассовых вазочках, а ели пластмассовыми ложечками. Эти прекрасные вещи были неотчуждаемой собственностью кафе, поскольку время одноразовой посуды еще не наступило. Между тем Глебу ложечки очень нравились. Как-то раз, облизав одну после очередной порции мороженого, он засунул ее в карман штанов. О приобретении сообщил бабушке дома. Бабушка еще ничего не сказала, а ответ уже отпечатался на ее лице. Всё в этом лице в буквальном смысле опало: надбровные морщины, мешки под глазами, уголки губ. Получалось так, что ложечку он украл – и завтра после школы они вместе (мы ведь украли вместе, уточнила бабушка) пойдут ложечку возвращать. Возврат мыслился Глебу актом торжественным и страшным, с привлечением всего персонала кафе, а может быть, и милиции. Ночью он почти не спал, а потом оказалось, что все-таки спал, но сон был хуже бодрствования. Вот они с бабушкой входят в кафе, садятся за столик. Не успевают еще ничего заказать, как от соседних столиков к ним бегут милиционеры, притворявшиеся рядовыми любителями мороженого. Одеты в штатское, во внешнем виде – избыточная легкомысленность: панамы, шейные платки, шорты. Уже по одному этому можно было бы догадаться, что речь идет о засаде. Милиционеры бросаются на Глеба (полные ужаса глаза бабушки), и это самый страшный эпизод ареста. Когда заламывают ему руки за спину – не страшно, когда защелкивают наручники и ведут к машине марки Волга, ГАЗ-21 – не страшно. А вот когда вскакивают и бегут к нему – страшно. Суки, менты гребаные, кричит Глеб, переходя на визг. Так кричит сосед дядя Коля, когда его забирают, – кричит и катается по полу, а вся квартира смотрит на него с осуждением. Смотрит сверху вниз. И Глеб катается, ловя взгляд бабушки: что, дождалась? Что, нельзя было дома отсидеться? Бабушка плачет: она уже всё поняла. Сидеть в машине со связанными сзади руками неудобно, но то, что его везут в Волге, несколько скрашивает ситуацию. Глеб давно мечтал прокатиться на Волге (один олень впереди чего стоит!), только всё как-то не складывалось… Да, часть ночи он все-таки не спал – и потом подремывал на уроках. После уроков они с бабушкой действительно пошли в кафе. Вопреки ожиданиям мальчика, всё прошло довольно просто и даже не без приятности – потому, наверное, что самое плохое случилось ночью. Бабушка заказала две порции мороженого и, пока их несли, положила злосчастную ложечку на соседний стол. Через много лет Глеб вспоминал эту ложечку в самолетах, помешивая поданный стюардессой чай. В то время он летал почти еженедельно (бабушки уже не было рядом – она, мертвая, лежала на киевском кладбище Берковцы) и имел, соответственно, широкие возможности выбирать себе ложечки по душе. Но не взял больше ни одной: жизнь – учит. Теперь об учебе. Глеб, как сказано, ходил в школу с украинским языком обучения. Этот выбор приветствовался не только отцом (что понятно), но и матерью, считавшей, что нужно знать язык края, в котором живешь. На сделанный выбор повлияло, правда, и практическое обстоятельство. В то время как русские школы ломились от желающих в них учиться (5 параллельных классов по 45 человек в каждом), в украинских царили спокойствие и камерность. Класс Глеба насчитывал 24 ученика, а параллельных классов не было. В этой школе учились дети украинских писателей и – поскольку она находилась рядом с вокзалом – ребята из ближайших к Киеву сел. Глеб не принадлежал ни к тем, ни к другим, и его украинский ограничивался отдельными словами, услышанными от отца. Впрочем, в ответственных случаях выяснялось, что писательским детям известно было тоже не всё. Когда на первом уроке классная руководительница Леся Кирилловна спросила, как по-украински будет камыш