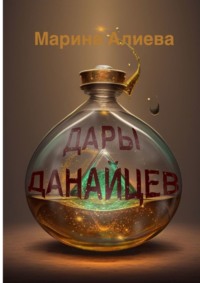
Дары данайцев
Хотя, нет, забыл! Вот ещё и новая дверь, стилизованная под старину, которая ведет в квартиру Эльвиры Борисовны. Точнее, в ту квартиру, которую она когда-то занимала.
Три года назад «бывшая певица, а ныне пенсионерка», как она сама себя всегда рекомендует, вдруг решила сняться с насиженного места и ехать на постоянное жительство в Петербург, к давней своей подруге.
– Вы с ума сошли! – воскликнул я, когда она пришла сообщить мне эту новость. – Да разве можно совмещать ваше здоровье и Питерскую сырость?! Этот город вас убьет, а я буду чувствовать себя виноватым за то, что не удержал.
– Сашенька, Сашенька, – качала в ответ головой Эльвира Борисовна, – Питер никого убить не может. Столько красоты, столько таланта намешалось. Даже революции этот аристократизм не выкорчевали. А пока жив там хоть один блокадник, жива и доброта. Я по ним соскучилась, и по подруге, и по доброте. Мне будет очень хорошо, поверьте.
– Здесь-то чем плохо?!
– А здесь как-то тревожно стало жить.
– Эх, Эльвира Борисовна, – вздыхал я, – до чего же вы наивный человек. Вот и видно, что сериалы не смотрите. Хотите, программку покажу – там по всем каналам, в самое удобное для пенсионеров время, «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург», «Бандитский Петербург»…
Соседка нахмурилась, сердито посмотрела на меня и, порывшись в растянутом кармане своей кофты, вызывающе достала папиросу. Я снова вздохнул. Этим жестом пожилая дама давала понять, что уговаривать её не ехать в Питер так же бесполезно, как отучать курить «Беломор», (чем я, кстати, несколько лет безуспешно занимался). «Ахматова его всю жизнь курила, и хуже от этого не стала», – был неизменный аргумент, которым все убеждения решительно обрывались.
– Я к вам, Сашенька, собственно не за тем пришла, чтобы вы меня запугивали, а с предложением купить мою квартиру, – заявила Эльвира Борисовна, широким жестом гася спичку, от которой прикуривала. – И вам хорошо, вдруг все-таки надумаете жениться на своей Екатерине, и мне приятно – не чужие люди поселятся. Как вам такое предложение, а?
Предложение было заманчивое и, к слову говоря, в то время, вполне осуществимое. У меня, как раз, один за другим, вышли три романа. Поэтому, не ломаясь даже для приличия, я ответил согласием, тем более, что куплю-продажу Эльвира Борисовна обещала максимально облегчить и ускорить через сына какой-то своей знакомой, который служил чиновником в нужной конторе.
Сын знакомой действительно здорово помог. И, хотя все прошло не так быстро и гладко, как мы хотели, (пришлось все же побегать по разным инстанциям), тем не менее, удалось избежать многих нудных очередей за какими-то бесполезными справками, и вот уже больше года я являюсь владельцем значительно увеличившейся квартиры.
Правда, почти такой же долгий срок, увязаю теперь в ремонте. Денег от продажи последнего романа хватило только на дверной проем и одну комнату. А дальше тишина. Екатерина, оживившаяся было при мысли, что я «вью гнездо» для будущей семьи, снова сникла. Но, что я мог поделать? Издатель торопил с новой книгой, и я бы, наверное, уже закончил её, кабы не дурацкий эпизод с журналом «Мой дом».
Ох, тщеславие, тщеславие – воистину, это любимый порок дьявола.
С появлением больших денег у некоторых слоев населения, снова проснулся интерес к антиквариату. И журнал, идя в ногу со временем, решил сделать серию статей о коллекционерах, живших когда-то в N. Об этих грандиозных планах я узнал от Екатерины, которая была знакома с редакторшей, и, подозреваю, что именно с её дружеской подачи в журнале приняли решение одну из статей в очередном выпуске посвятить моему дяде.
Со мной созвонились, прислали корреспондента – сопливого щенка Алешу, и фотографа. Эти двое целый день ходили по квартире, все снимали, записывали и восторгались: «Ах, Лувр!», «Ах, Эрмитаж, Оружейная палата!». А я, раздуваясь от гордости, вышагивал следом, давая показания, какой эпохе и даже, каким людям принадлежали в прошлом вещи из дядиной сокровищницы – благо он мне, дурню, оставил подробнейший каталог.
А потом журнал вышел, и в нем, почти три разворота заняла статья о Василии Львовиче и его коллекции. Говоря о дяде, корреспондент Алеша, (будь он трижды неладен!), на эпитеты не скупился. То и дело мелькало: «крупнейший», «виднейший» и, «несправедливо забытый при жизни». А я получился этаким умненьким всезнайкой и тоже в обрамлении прилагательных, типа: «Наш знаменитый, наш талантливый земляк». Фотографии, как назло, были великолепными! На них знакомые с детства вещи смотрелись куда как значительней. И я, переворачивая страницы, по-барски одобрительно кивал головой, приговаривая: «прекрасно, прекрасно…».
Конечно же, не удержался от соблазна показать журнал всем друзьям и знакомым. Многие его уже видели, а те, кто не видел, хоть и бывали у меня дома неоднократно, все равно листали с интересом и тоже признали, что на фотографиях интерьер квартиры выглядит намного солидней. Статью хвалили, меня поздравляли, хлопали по плечу и обещали подарить коробку с музейными тапочками.
Все было прекрасно до тех пор, пока журнал не оказался в руках у моего издателя.
– М-да, брат, – сочувственно проговорил он, поглаживая глянцевую обложку, – боюсь теперь мы нового романа не дождемся.
– Это почему ещё? – удивился я.
– А когда тебе его заканчивать? Ты теперь решетки на окна будешь ставить, сигнализацию по всем углам проводить и сидеть у двери вместо сторожевой собаки, потому что ворье сейчас ушлое, и им обычная собака не помеха.
– Вы шутите, надеюсь? – высокомерно спросил я, выкладывая перед ним распечатку новых глав.
– Как знать, – издатель покосился на жидковатую стопку. – Но эти издания, (он потряс журналом), настоящий путеводитель для воров. Причем, я не карманников и прочих домушников имею в виду. Коллекционеры ныне не чета твоему дяде, в средствах не слишком стесняются. Наймут профессионалов – и… крышка! Хорошо, если просто квартиру обнесут, а ведь могут и… ку-ку…
Издатель сделал выразительный жест – большим пальцем по горлу – а потом все же рассмеялся, давая понять, что шутит.
Но мне уже было не до шуток!
Идя домой, я последними словами клял себя – зачем согласился на эту публикацию – потом Екатерину, и, наконец, корреспондента Алешу, додумавшегося написать: «К сожалению, невозможно в одной статье дать представление обо всех уникальных экспонатах, собранных и отреставрированных Василием Львовичем Калашниковым. По известным причинам мы не публикуем наиболее ценное…». По известным причинам! Господи! Да, как же я раньше-то на это внимания не обратил! Идиот, Алеша, дал прямую наводку – дескать, видите вы на фотографиях только цветочки, а там ещё такие ягодки скрыты, что ого-го!… Ох, дурак! Ну и дурак! Да и редакторша тоже хороша! Вот сейчас приду, позвоню ей и поинтересуюсь, сама-то она понимает, какие призывы печатает?
Дома я, почти рыча от бешенства, первым делом осмотрел замки, не ковырялся ли кто? А затем прямиком направился в квартиру Эльвиры Борисовны. (Странное дело, сознание упорно отказывалось воспринимать её, как собственность, хотя большую часть времени я теперь проводил там).
В отремонтированной комнате сосредоточилось все то, что не вписывалось в интерьер дядиной коллекции – компьютерный стол, со всем, чему на нем полагалось быть, машинка для капуччино, радиотелефон, огромный, наворочанный пылесос, не влезающий ни в одну кладовку и телевизор с огромным плоским экраном. Из антикварной обстановки сюда затесался только изогнувшийся ужом комод карельской березы, которому пришлось уступить свое место новой двери. На комоде теснились, заслоняя друг друга, старинные рамочки с фотографиями. Дедушка, бабушка – молодые и такие, какими я их запомнил, мама, отец, элегантно закинувший ногу на ногу; дядя – один и со мной; все мы вместе, Екатерина…. Её фотографию я сердито переставил на компьютерный стол и включил телевизор. «Надо бы поработать», – шепнул внутренний голос, но это было, скорее, «для прессы», потому что работать в таком состоянии невозможно. Настроение испорчено, сознание отравлено.
«Спокойно!», – приказал я сам себе и, порывшись в бумагах, выудил телефонный справочник. Где-то был записан телефон одного знакомого, который хвастал какой-то совершенно немыслимой охранной системой. Я для того и номер записал, чтобы при случае навести справки. Интересно, почему же не навел? Впрочем, тогда ещё жила по соседству Эльвира Борисовна, которая на каждый шорох в подъезде выглядывала в глазок, и была уже установлена гигантская металлическая дверь с несусветно сложным немецким замком, который казался надежней всего на свете…
– Аллё! – крикнул я в трубку, когда гудки на другом конце провода прекратились, и мне ответил женский голос. – Могу я услышать Игоря?
– Игорь уехал в командировку за границу. На пять лет.
– А вы, простите, кто? Его жена?
– Нет, жена с ним. А я сестра. Живу здесь, пока они не вернутся.
– Ах, так…. Ну, простите, до свидания.
Я постучал трубкой по подбородку. Выходит, не такая уж и надежная система охраны, раз Игорь сестру поселил для верности. Черт! У кого же ещё можно узнать про эти проклятые сигнализации? Юрка Семенов связался с милицией, поставил квартиру под охрану и теперь каждый раз отзванивается, когда приходит домой. Мне такое противопоказано. Я забываю все на свете и, рано или поздно, стану похож на Толстовского пастушка. И, когда придут настоящие волки, в милиции решат, что этот придурочный писатель опять забыл отзвониться и махнут на все рукой…. Хотя, наверное, не махнут. И даже, может быть, приедут. Но, раз есть сомнения, значит, останутся и страхи. А мне необходимо избавиться именно от них.
Завести собаку? Но ведь её сначала нужно вырастить, воспитать, да не самому, а с опытным инструктором. Ходить гулять ни свет, ни заря, не забывать про корм…. Господи, да я себя, иной раз, забываю накормить, не то, что собаку! А если она ещё и грызть все начнет? Значит, это тоже не выход.
Нанять охранника? Мне это не по карману. А даже если и было бы по карману, то достаточно вспомнить, что на всякие деньги есть деньги ещё большие. И, когда мою квартиру обчистят, охранник, подлечив на лице и теле бутафорские синяки, поедет, с легкой душой, отдыхать на какой-нибудь экзотический курорт…
Вдруг фамилия, прозвучавшая в телевизоре, привлекла моё внимание. Паневин? Алексей Николаевич? Неужели тот самый собиратель открыток, который играл с дядей в бридж по субботам? Что это там говорят? «Ограблена вдова коллекционера». Вот как. Выходит, он умер уже…. А это сама вдова…. Что это с ней? Почему в больнице?
Я сделал звук погромче.
«… Уже в больнице, придя в себя, Елена Георгиевна сообщила, что грабители искали коллекцию городских гербов, которую собрал её муж. Некоторые гербы из этой коллекции выполнены в виде памятных медалей из драгоценных металлов и камней. По оценкам специалистов, стоимость похищенного составляет…».
Пульт выпал у меня из рук.
– Это знак! – застонал я, хватаясь за голову.
Не может быть, чтобы по простому совпадению, именно сейчас, именно когда я сижу и боюсь ограбления, мне показывают кражу в доме дядиного бывшего приятеля. И, как нагло-то все проделано! Пришли и просто спросили: где? А потом по голове – ба-бах! Хорошо хоть не убили, но шок, больница, унижение…
Я вскочил и забегал по комнате.
Как все это пошло! Может, все-таки, пойти в милицию? А-а, черт! Достаточно посмотреть наши сериалы, чтобы понять, что это дохлый номер. Вот, когда обворуют, тогда они, может быть, и зачешутся. Но я-то к тому времени запросто могу лежать с проломленным черепом!
Проклятье!
От телефонного звонка внутри все упало, точно оборванные жалюзи.
– Сашка, ты где?!
Голос у Екатерины обиженный и негодующий.
– Все уже давно собрались, ждем только тебя! Лешка рвет и мечет…
Вот дьявол!
Я хлопнул себя по лбу. Совсем забыл из-за этих переживаний! Леха Сомов – старый приятель ещё со школы – отмечает сегодня свой день рождения! У нас с ним разница в один день, и раньше мы всегда объединялись для празднований. Но, с тех пор, как Лешка женился, пришлось, как он высокопарно выражался, «разломить хлеб дружбы надвое»…
– Я не приду.
– Почему?
– Работаю.
Екатерина замолчала. «Обиделась, наверное», – мстительно подумал я, но тут трубка загудела Лехиным басом.
– Мерзавец, а мерзавец, тебя сколько можно ждать?
Я тяжело вздохнул и сменил сухой тон на задушевный.
– Леха, брат, я тебя от всей души поздравляю…
– Да мне плевать! Корм стынет, пойло греется, народ ропщет. Старик, мне все труднее и труднее контролировать ситуацию!
– Это потому, что пойло, судя по всему, греется уже в твоем желудке, и давно, – буркнул я.
– А имею право – я именинник.
Леха засопел и сбавил тон.
– Нет, ну ты что, правда, не придешь?
Я вздохнул ещё тяжелее.
– Нет, Леха, не приду.
– А если я тебе этого никогда не прощу?
– Ты так гнусно не поступишь. Ты – друг, а друзья должны прощать и понимать. Я только что примчал от издателя. Тоже, кстати, грозится «не простить». И дома кое-какие проблемы нарисовались…. Короче, Леха, я, правда, от всей души…. Подарок за мной, но… увы…
– И-ех-х-х! – досадливо проскрипел Лешка и отбился.
«К черту все!» – подумал я. Выключил телефон, упал в кресло и запустил компьютер.
Екатерина ласково и печально смотрела на меня из рамки.
– Сама виновата, – сказал я ей и застучал по клавишам.
До поздней ночи велась борьба между мной и книгой. Победила книга. Она никак не хотела писаться. Диалоги получались тяжеловесными, очередная сцена грозила стать затяжной и нудной, а все в целом катастрофически разваливалось.
Наконец, я сдался.
За окном стемнело. По телевизору урчал какой-то слезоточивый фильм, и лифт в подъезде стал хлопать дверью значительно реже.
Пора принимать душ и – спать.
Но, когда я выходил из ванной, те самые первые дядины часы бархатным боем сообщили, что наступила полночь. И мистический ужас снова пополз по всему телу, начинаясь где-то в копчике и стремительно взбираясь вверх, к мозгу.
Время нечисти. Время страха!
За окном, как-то крадучись, проехала машина. Почему она так поздно? Остановилась. Дверь воровато хлопнула…
Я осторожно выглянул и увидел на лавочке, в тускло освещённом дворе, две сумрачные фигуры. А что если они ждут, когда в моих окнах погаснет свет? А потом прокрадутся сюда, вскроют дверь…. Хотя, нет, немецкий замок им не вскрыть. К тому же, я поставил на предохранитель…. Или не поставил?
Пришлось идти, проверять.
Все было в порядке, вот только вид металлической двери вызвал в памяти воспоминание о рабочих, эту дверь устанавливавших. Один из них, на вопрос, насколько дверь надежна, весьма авторитетно заявил, что вскрыть можно любую, было бы время, опыт, да инструмент подходящий…
О-о-о!!!
Я, матерясь, запер вторую дверь. Этак до паранойи дойти недолго!
Решительно вернулся к окну и выглянул, не таясь. Фигуры по-прежнему сидели на скамейке, только теперь они страстно обнимались. «Ну вот, пожалуйста, паранойя в чистом виде! Все, хватит на сегодня страхов! Немного почитаю и спать!».
Раздеваться я, правда, не стал. И свет в бывшей дядиной комнате не погасил. Пусть думают, что пишу. Да и постель стелить не стану – под пледом, на диване, тоже неплохо. Ничего, одну ночку «побомжую», а утром, глядишь, от ночных испугов и следа не останется.
Но до утра было ещё далеко, а страхи, стоило мне погрузиться в дремотную тишину, мгновенно материализовались в виде неясных, подозрительных шорохов из коридора. Я ворочался, скрипел зубами, старательно закрывал глаза, пытаясь удержать сбегающий сон. Но через минуту снова распахивал их, потому что казалось, что в замочной скважине кто-то тихо ковыряется.
В конце концов, сон окончательно сбежал, махнув на меня рукой, и ничего другого не осталось, кроме как лежать, смотреть на знакомые с детства завитки шкафа и предаваться невеселым размышлениям.
В зеркалах под этими завитками уже давно не отражались никакие образы. Может, перебравшись в мои ранние рассказы, они так и остались жить в тех сборниках, в которых их напечатали. А может, теперь, когда я пишу совсем другие книги, они просто затаились, понимая свою ненужность.
«Сашенька, милый, кому сейчас нужны мумии из прошлого? – восклицал издатель, возвращая мне очередную повесть. – У вас же прекрасный язык и стиль. Пишите то, что станут покупать. Я читал ваши статьи в газете – это прекрасно! Чечня, боевые действия, яркие образы…. Это сейчас очень модно, и вам это хорошо удается. Не тратьте время на пустые забавы, напишите что-нибудь героическое, наше…».
Да, Чечня это наше.
После дядиной смерти мне пришлось снова вернуться в N и устроиться в местную газету. Спасибо школьным и студенческим публикациям – взяли без вопросов. А тут война в Чечне. Я сам напросился туда корреспондентом, требуя направить меня только на передовую.
Ясное дело, на мои требования ответили категорическим отказом, и первое время пришлось отираться в каком-то связистском штабе, за несколько километров от Грозного.
Навалился совсем другой мир – страшный, безумный, на первый взгляд, совершенный своей особенной упорядоченностью, но, в то же время, чудовищно бестолковый. Именно благодаря этой бестолковости, мне удалось перебраться поближе к центру военных действий. И началось приобщение.
Сначала, к героическому. Когда, очутившись среди своих, почти что, сверстников, я вдруг почувствовал себя безмозглым щенком в стае матерых волков. Особый язык, особые жесты, образ жизни, ценности и совершенно особенный страх. Он был не тем страхом, который заставляет бежать, сломя голову, подальше от опасности. Этим мальчикам бежать было некуда. Но именно природа этого особенного страха отмежевала меня от них, заставив задуматься о вещах совсем не героических. Что принуждало вчерашних школьников перебарывать свое естество и идти умирать в войне, здравого смысла в которой практически не было? Что они защищали? Родину? Близких? Но такая ли уж страшная беда грозила и родине, и близким от маленькой республики, решившей проявить своеволие? Все страшное вылезло потом, когда война уже была развязана…
В газетах, которые получал отдел по воспитательной работе, я без конца читал статьи, написанные общими фразами, но густо усеянные эпитетами, вроде «героические действия», «интернациональный долг», «бессмертный подвиг». Подробно расписывались зверства местных боевиков, причем, этих самых боевиков тут же, как плевела от зерен, отделяли от «простых» чеченцев. Что подразумевалось под словом «простые», я никогда не понимал, ни в школе, слушая, как учитель истории отделяет «простой» народ от дворян, ни потом, в годы пресловутой перестройки, когда «простых» рабочих опрашивали о способах переустройства России. Но здесь, в Чечне, читая газеты, я начал понимать другое. Все разглагольствования о героизме и бессмертном подвиге служили фиговым листочком и прикрывали вполне конкретные призывы – убивай, подавляй и снова убивай! Ты крутой, ты в касте, ты – не как другие – тебе оказали честь, послав на войну! И тем мальчикам, которых я сначала принял за матерых волков, и в которых потом рассмотрел самый естественный страх перед смертью, было легче думать, что они продолжатели дела отцов, защищавших Родину в годы второй мировой, чем размышлять о том чудовищном, что уже начало ломать их жизни. Ведь возвращаться им придется в мир, который после всего этого, покажется чужим, равнодушным, совсем не нуждающимся в их подвиге.
Я хорошо помню тот мой первый страшный день.
Шел дождь, и убитые лежали на земле, прямо в лужах. Вокруг бегали, ходили, отдавали какие-то приказания, а я стоял и тупо, без слез, смотрел. Может, конечно, слезы и были, но за дождем я их не чувствовал. Просто смотрел и смотрел на безжизненные холмики тел.
Было дико.
Господи, я же столько раз об этом читал, но чтобы так страшно…. Ещё вчера, вот только вчера, они пили какую-то дрянь из кружек, матерились, толкались локтями и ржали наш пошлостями, как дикари. А теперь лежат в лужах, и им все равно.
Те, кто выжил, сидели поодаль. Они не курили нервно, не сплевывали сквозь зубы, утирая скупые мужские слезы, не бились в истерике. Просто сидели…. Не вместе…. Каждый, как изумленный странник, выброшенный на незнакомый берег и ушедший глубоко в себя. И тогда я понял, что, все-таки, они – каста. Каста людей, которые ещё вчера были единым, живым организмом, связанным невидимыми нервами. А теперь в этом организме зияют дыры, вырванные по-живому. И нужно время, чтобы кровоточащие обрывки зажили, протянулись сквозь эти дыры и срослись снова. Но срастутся ли они там, где умение убивать и выживать не так уж и нужно; где их нынешний, покалеченный, выведенный болтунами-политиками живой организм должен будет сам собой развалиться. И где на каждый кровоточащий разрыв будет солью сыпаться обычная мирная жизнь?
Мне стало горько.
Из Чечни возвращался в подавленном состоянии. Со мной вместе ездил Вовка Плескарев – щуплый и плешивый карьерист, который всю командировку проторчал при штабе связистов от ФАПСИ, считая, что их лучше охраняют. В самолете он радостно потирал мелкие бабские ручки – «Санек, я материальчик насобирал – пальчики оближешь!». А я смотрел на него и думал, что, если напишу о своем, то мне эти самые пальчики попросту оборвут. Потому что правда не нужна никому. Потому что все мы живем по законам того же самого страха, который не гонит дальше от опасности, а чтобы было не так страшно, заставляет надевать розовые очки. Сквозь эту «защиту», как в зеркале тролля из «Снежной королевы», безобразное кажется прекрасным, а истина кривляется и корчит рожи. И всем делается очень удобно читать и разглагольствовать о героизме и подвиге, потому что в этом одна только гордость и никакого унижения.
Но мне-то, что было делать?!
С потерей иллюзий, становилось совершенно невозможно восхвалять действительно героическое. За истинный подвиг было обидно – этот бы духовный потенциал, да на мирную жизнь, глядишь, она бы стала и лучше и чище. Но совсем горько делалось за другие подвиги, те, что были обусловлены нерадивостью командиров, самодурством какого-нибудь упертого «чина», неразберихой, или халатностью.
Господи, думал я, да на кой черт матери рыжеватенького парня, которого прозвали Вологдой за то, что, отправляя письма, он всегда напевал: «Где же моя ненаглядная, где?…», знать, что её сын «пал смертью героя»?! Уж лучше бы он тихо и незаметно, но жил. К тому же, о каком героизме может идти речь, если хмельной офицер перед перегоном попросту забыл одеть положенный по уставу бронежилет. Опомнился только в БТРе и снял его с Вологды – «вдруг командование какое…». А когда напали, в неразберихе обстрела как-то забыл об этом обстоятельстве, крича на Вологду и подгоняя его пистолетом к смертоносному люку. Убитому рыженькому мальчику теперь наплевать, что офицеру объявили взыскание. Кто знает, может быть, вырвавшись из пробитой груди, душа Вологды облегченно вздохнула, что покидает этот сумасшедший, несправедливый мир…
Напиши я о таком, вот бы вой поднялся! «Клевета! Поклеп! Ты не гражданин! Тебя послали писать правду, а ты увидел только худшее, и из единичного вывел целую систему!». Нет уж, будь добр, засунь свою облезлую голову в песок и яви всем задницу, на которой перья краше. И никого не взволнует, что из этой задницы может вылезти только дерьмо…
Вернувшись домой, я сразу побежал к знакомой врачихе, оттащил ей пакет с щедрым подношением, взял больничный аж на неделю, и все семь дней терзал «Олимпию», печатая, как сумасшедший. Было ясно, что в редакции с меня сразу начнут требовать статью или серию очерков, но писать их не хотелось. По крайней мере, вот так, сразу. Важно было излить на бумаге ещё живое, свежее ВПЕЧАТЛЕНИЕ. Поэтому я писал, писал и писал все без разбора, без «художественного оформления» в связные абзацы. Хотелось передать двойственность ощущений так, чтобы не обидеть, не принизить памяти павших и силу духа выживших. Но, в то же время, не возносить на заоблачный постамент то, чему в нормальной человеческой жизни вообще не должно быть места.
В конце концов, из хаоса семидневных размышлений родилась и статья, и серия очерков, которые можно было предъявить в редакции. В них фиговый листочек патриотизма получился достаточно прозрачным, и нестандартные публикации вызвали немало толков. Пришлось даже ходить объяснять свою гражданскую позицию на «самый верх». Но журналистика учит многому. На тоскливое замечание управленца по печати о том, что «раньше он бы меня за такое посадил», я успешно отболтался, перевернув собственные мысли с ног на голову, отчего они стали более «понятны и приемлемы». Был милостиво отпущен и даже стяжал славу в определенных прогрессивных кругах. Тогда-то мой издатель и посоветовал писать «про наше».
А тут ещё и Лешка Сомов – друг закадычный – забежал как-то «на огонек», и, пока я возился на кухне, нагло сунул нос в мои Чеченские наброски. «Старик! – орал он потом, роняя изо рта куски непрожеванной колбасы, – Это же класс! Твои статьи, по сравнению с этим, просто какой-то советский партийный доклад! Ты гад, если не напишешь книгу! Все эти „Слепые“, „Косые“, не знаю там, „Сопливые“, – одна туфта! Базарной мафии и в жизни завались. А вот чтобы герой – человек из тех, что ещё не сбились в собачью стаю. С умом, с душой, со свежим взглядом – этого, брат, не хватает. По этому давно уже душа скучает. А у тебя такой материал! Пиши!».

