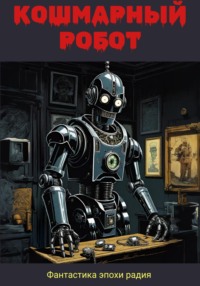
Кошмарный робот
Я признался в небольшом знакомстве.
– Признаться, я был весьма расположен к нему и надеялся, что если кому-то и удастся добиться успеха, то именно ему. Главным его недостатком казался вспыльчивый и резкий нрав. Я знал, что он предпочтительнее Лапхэма, и так и сказал, а когда произнес это, то с удивлением заметил, что Рода покраснела. Возможно, я был слишком склонен к диктаторству, но, заметив это, я сказал:
– "Рода, я бы на твоем месте не кокетничала с ним".
– Она рассмеялась и спросила:
– "Почему?"
– "Я думаю, что он любит тебя, – ответила я, – и я его вполне одобряю".
– Она сделала насмешливый реверанс и весело сказала:
– Но как я могу выйти за него замуж, если Берт сказал, что я выйду за него и только за него?
– "Когда он это сказал?" – спросила я.
– "О, в тот вечер, после того как он обвинил меня в том, что я слишком часто встречаюсь с мистером Дреннингом".
– Я довольно резко высказал свое мнение по поводу его дерзости и, все еще злясь, собирался выйти из комнаты, как вдруг она закружилась передо мной в танце и с улыбкой объявила меня глупцом.
– "Я не выйду ни за кого из них, – сказала она, – я останусь здесь и буду твоей верной и преданной сестрой".
– "Вы откажете Хэлу?" – сказала я.
– "Конечно, я откажу им всем", – воскликнула она.
– "Хэл не воспримет отказ спокойно," – сказал я, и в этот момент мне пришла в голову мысль о его неуправляемом нраве. Действительно, он не принял бы отказа спокойно, и если она действительно собиралась отказать ему, то ее поведение было непростительным, так как она возмутительно флиртовала с ним.
– Этот разговор состоялся чуть больше недели назад. В прошлый вторник вечером Рода спустилась в восемь часов, одетая для приема гостей. Я находился в лаборатории за работой, когда она вошла ко мне и, крутясь на месте, демонстрировала новое платье. Я что-то сказал о нем в ответ на ее вопросы о длине, фасоне и т.д., а затем спросил, кто придет, и она, как бы надувшись, сказала, что не знает, скажет она мне или нет. Я был несколько раздосадован, так как не видел причин для подобного поведения, когда она, быстро переменившись, разразилась смехом и сказала – я отчетливо помню ее слова:
– "Ой-ой, какой ты смешной братец. Ну, если хочешь знать, это…" – она на мгновение замешкалась, – "твой друг, мистер Дреннинг. Видишь ли, он может сделать предложение в любой момент, и я хочу быть готовой к непредвиденным обстоятельствам".
– Все еще смеясь, она, слегка запнувшись, вышла из комнаты, и, конечно, мне и в голову не пришло, что она могла пошутить. Чуть позже я услышал звонок и шаги в коридоре. Я продолжил свою работу, которая заключалась в тестировании новых ламп и записи их относительной силы. Ближе к вечеру я услышал, как хлопнула входная дверь, и кто-то вышел из дома. Это было обычное явление, которое не произвело на меня никакого впечатления. Вы понимаете. Я часто замечал, как, полагаю, и вы, что необычное редко сопровождается явлениями, которые можно назвать предвосхищением.
– Прошел, наверное, час, когда я закончил свою работу, и тут мне впервые пришло в голову, что Рода не зашла пожелать мне спокойной ночи, и я не слышал, как она поднималась наверх. Я зажег сигарету и, открыв дверь в холл, увидел, что в гостиной все еще горит свет. Подумав, что она читает и что ей пора на покой, я прошел по коридору и вошел в комнату.
Доктор сделал паузу и закрыл глаза рукой.
– Я полагаю, – продолжал он, – что буду продолжать стоять и смотреть из этого дверного проема до тех пор, пока не окажусь бесцельно крутящимся на конце веревки". Она сидела в кресле Морриса у стола, лицом ко мне. Ее тело обмякло, голова свесилась влево, язык вывалился из идиотски раскрытого рта, и слюна стекала с губ на кружевную оборку платья. Глаза ее были открыты, остекленевшие, полные дикого ужаса. Руки ее лежали на подлокотниках кресла, и по ним было видно, что она внезапно упала, тщетно пытаясь до чего-то дотянуться. Я не знаю, не могу объяснить вам, как и почему лежащая в кресле фигура может навести на мысль о падении, которому предшествовало напряжение в поисках какого-то определенного предмета, но именно такой эффект произвело на меня то мгновение, когда я стоял в оцепенении.
– Придя в себя, я бросился к ней и распрямил ее. В моих руках она была словно безвольная плоть. Я пощупал пульс и ничего не почувствовал. Я попробовал еще раз, но ничего не произошло. Я поднес хрустальный циферблат своих часов к ее рту. Дыхания не было видно. Она была мертва. Я уронил ее руку и побежал в лабораторию за стимулятором. Я всегда держал запас в маленьком шкафчике в углу, и вот я уже нащупывал нужную мне склянку, когда меня испугал быстрый щелчок одного из телеграфных аппаратов. Я остановился в изумлении. Из комнаты, которую я только что покинул, пришло сообщение, и это было ее сообщение. Я бы узнал его из тысячи.
– Отрывисто, в сокращениях, которые мы использовали для большего удобства, были набраны эти слова: "Приходите, убивают", – я не стал больше ждать, а бросился в комнату. Она была пуста, кроме нее, и лежала точно так же, как я ее оставил, только рука ее соскользнула с подлокотника кресла и свисала наружу.
– Минуточку, – сказал я. – Был ли на этом стуле передатчик?
Он неподвижно смотрел на меня, веки медленно скатывались с белков его глаз.
– Ваш разум путешествует вместе с моим, сэр, – сказал он хрипловатым шепотом. – На подлокотнике кресла, с нижней стороны, был установлен передатчик. Как вы думаете, возможно ли, чтобы она смогла прийти в себя настолько, чтобы отправить сообщение? Между нами говоря, когда я уронил ее руку перед тем, как уйти за стимулятором, я оставил ее рядом с передатчиком. Я знаю, что рука не висела, когда я уходил.
– Продолжайте, – попросил я.
Он не обращал на меня внимания, а начал говорить словно сам с собой.
– Но она была мертва, – сказал он. – Она была мертва. Она была мертва не менее часа. Когда я вернулся, в ней не было абсолютно никаких изменений. Она была мертва и до, и после. Я знал это, хотя и не признавался себе в этом.
Он словно вышел из задумчивости и, снова повернувшись ко мне, продолжил свой рассказ:
– Я подхватил ее на руки и понес, безжизненную, ускользающую, желеобразную массу, в лабораторию, положил на операционный стол. Там, в бешеной спешке, я испробовал все известные мне способы оживления, и все безуспешно. Сэр, с того момента, как я впервые увидел ее, и до тех пор, пока я окончательно не отказался от борьбы, клянусь вам, не было ни одного движения, знака, символа или признака жизни. Она была мертва.
– Как и любой другой человек, внезапно лишившийся чего-то ценного, я поначалу не понимал смысла этого. Да и вряд ли когда-нибудь пойму. Только после того, как я отказался от попыток реанимации, я начал размышлять". Судмедэксперты вынесли свой вердикт. Вы знаете, что они сказали. Они не знают, что стало причиной ее смерти. Они думают, что я убил ее во время эксперимента, как мне кажется".
Он взглянул на меня краем глаза и продолжил спокойно, как мог бы говорить совершенно незаинтересованный свидетель:
– На теле не было никаких следов. На коже не было ни царапины, ни булавочного укола. Не было ни синяков, ни пятен, ни ссадин, ни следов или признаков физического насилия. Я уже собирался сказать, что это болезнь сердца, как вдруг вспомнил сообщение, пришедшее по телеграфу: "Приходите, убивают…". Впервые я понял, что сообщение было неполным. По какой-то непонятной причине этот факт до сих пор ускользал от меня. Тогда, сэр, я успокоился и планомерно принялся за работу.
– Я не сомневался в личности убийцы, если таковой был. Я рассудил, что Дреннинг сделал ей предложение, получил отказ и, возможно, в порыве страсти ударил и убил ее. "Но… но, – сказал я, – никаких ударов не было. Это должно быть сделано каким-то другим способом. Но если это было сделано, то обязательно найдутся следы". Тело уже лежало на операционном столе, я подсоединил соответствующую трубку и стал искать металлические частицы. Я ожидал обнаружить в теле какое-то твердое, инородное тело, способное вызвать смерть. Я не знал, в какой именно части тела оно будет находиться, поэтому искал тщательно, понимая, что оно может принять любое из десятка странных и неожиданных обличий, например, как игла, воткнутая в жизненно важную часть и отломанная. Вы, наверное, знаете, что длинные тонкие иглы из стекла, если их быстро воткнуть, убивают очень эффективно, а при использовании такого орудия, если его аккуратно сломать, рана почти не видна.
– Я работал над ней много часов. Я ничего не нашел, но не сдавался. Я снова и снова осматривал ее, и всегда с одним и тем же результатом. Только через четыре долгих часа я сел, поняв, что дальнейшие поиски тщетны.
– Невозможно объяснить вам чувство гнева, которое овладело мной в следующие полчаса. Это была ярость, выросшая из чувства бессилия, вызванная осознанием того, что, несмотря на все мои знания, я оказался в тупике. Я перебрал все известные мне способы. Я думал о каждом устройстве, о котором когда-либо слышал. Я старался изобрести новые и неиспытанные эксперименты, и в процессе этих поисков мне пришло в голову, что исследование крови и нервов может по какой-то случайности что-то показать.
– В отчаянии я установил лампу для кровеносной системы и развернул флюороскоп над телом. Я решил начать с рук, так как там, в очень мелких кровеносных сосудах, где тельца проходят в один ряд, если что-то не так, то это будет заметно. Я включил питание и поднес глаз к микроскопу. Постепенно, по мере того как я смотрел, и мой глаз привыкал к свету, плоть с костей исчезала, оставляя их довольно грубыми и отвратительными, как засохший и распаренный обрубок конечности. В продолжающемся свете трубки, даже когда я наблюдал за ними, они тоже поблекли и исчезли. Затем постепенно и медленно стала видна кровеносная система, сеть вен, похожая на паутину паука.
– Я смотрел на кончик первого пальца правой руки. И вот, когда кровь стала более отчетливой, я сменил предметное стекло микроскопа на более сильное, и с его помощью в поле зрения попал один участок минутного сосуда. Достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в полной исправности аппарата. Вот наружные стенки вены, а внутри, как монеты в желобке, лежат похожие на диски тельца, но не такие, какими я их часто видел, медленно двигающиеся по своему пути, а остановившиеся, застывшие на своих местах, неподвижные, как неподвижен механизм, когда двигатель заглох.
– Я внимательно присмотрелся и уже собирался прекратить свои исследования, ничего не найдя, как вдруг заметил, что все тельца расположены определенным образом. Это было настолько необычно, что привлекло мое внимание. Вместо того чтобы красные и белые тельца были перемешаны, как это обычно бывает, без всякого порядка и последовательности, все они в поле зрения микроскопа были так точно упорядочены, как будто их разложили и поставили на свои места. Они располагались последовательно: три красных диска, выстроенных в линию, короткий промежуток, один белый диск, еще два красных и длинный промежуток, после чего то же самое повторялось. Это было собрание групп телец, каждая из которых отличалась друг от друга и состояла из них, как я уже указывал.
Кажется, я ахнул, потому что он быстро сделал карандашный набросок:
– Именно так они и были расположены, – сказал он.
Я не выглядел прозревшим, так как не увидел ничего странного.
– Вы знаете, что это такое? – спросил он, возбужденно наклонившись вперед. – Это буквы Л и A азбуки Морзе, вместе они образуют сокращение имени Лапхем, которое мы всегда использовали для его обозначения, когда нам доводилось передавать его имя по проводам". Сэр, в ее крови не было никаких посторонних или ядовитых проявлений, но во всех ее венах, во всем ее теле я нашел тельца, расположенные таким образом. Какое это имеет значение? Я не психолог. Я не могу объяснить, но вы легко поймете, в каком состоянии я нахожусь.
– Мы поставлены перед альтернативой. Когда я вошел в комнату, она была либо мертва, либо находилась в коматозном состоянии. Если она была мертва, то передача неполного сообщения может быть объяснена только спиритизмом или тем, что подсознательное "я", которое в нашей семье, вероятно, является телеграфным, было временно приведено в действие прикосновением пальца к кнопке. В этом случае не будет пустым воображением предположить, что вся материальная ткань сконцентрировалась в высказывании, которое она произнесла, и такая концентрация, естественно, затронула бы основополагающие элементы жизни, в первую очередь кровь.
– С другой стороны, если она не умерла, то те же самые рассуждения остаются в силе. Учитывая концентрацию, которая, несомненно, должна была присутствовать, добавьте только руку, соскользнувшую с подлокотника кресла и передатчика в тот момент, когда нужно было передать имя убийцы, и когда вся система была заряжена символом, и идентичная ситуация, представленная здесь, не могла бы быть невозможной.
Он резко остановился, рассеянно поднес к губам потухшую сигарету, затянулся раз-другой и, глядя на меня, медленно произнес:
– Я вижу, что вы меня поняли. Теперь перед вами весь ход событий, предшествующий преднамеренному убийству. Могу только добавить, что когда я объявил Лапхэму о своем намерении стрелять, в его глазах блеснул первобытный страх, а на его затвердевшем языке прозвучало слабое "Боже, как вы это узнали?". Вот и вся история, и, как я уже сказал, вы признаете абсолютную бесполезность всего этого в качестве доказательства.
– Есть еще кое-что, – сказал я, – что стало причиной ее смерти?
В этот момент охранник подошел ближе и, чтобы нас не подслушали, наклонился и прошептал мне на ухо. Я был поражен.
– Как он узнал об этом? – спросил я. – Это очень необычно.
– Не знаю, – сказал он, – но это можно было сделать таким образом.
Вот почему я защищал доктора Форбса. После вынесения приговора я намеревался позволить ему выступить в суде и рассказать свою историю и тем самым спасти свою шею, а его самого поместить в психушку, но, к сожалению, в ночь после оглашения приговора он был найден мертвым в своей камере. Врачи в очередном порыве врачебной откровенности заявили, что не знают причины смерти, но склонны подозревать сердце.
1906 год
Бактериологический детектив
Артур Бенджамин Рив
Кеннеди был погружен в работу над лекцией о химическом составе различных бактериальных токсинов и антитоксинов, что было для меня так же незнакомо, как Камчатка, но было знакомо Кеннеди, как Бродвей и Сорок вторая улица.
– И действительно, – заметил он, откладывая авторучку и в сотый раз зажигая сигару, – чем больше думаешь о том, как современный преступник упускает свои возможности, тем удивительнее это кажется. Почему, когда есть такой великолепный ассортимент изысканных методов, они используют пистолеты, хлороформ и синильную кислоту?
– Да брось ты, старик, – устало ответил я, – разве только потому, что у них нет воображения. Хочется надеяться, что они им не будут пользоваться. Что станет с моим бизнесом, если они это сделают? Как из этого можно сделать действительно драматический материал для "Стар"? "Пунктирная линия отмечает путь, пройденный смертельным микробом; крестик указывает место, где его атаковал антитоксин" – ха-ха-ха, не очень-то это подходит для желтых журналов, Крейг.
– На мой взгляд, Уолтер, это было бы верхом драматизма – гораздо более сильного драматизма, чем пустить пулю в человека. Любой дурак может выстрелить из пистолета или перерезать горло, но для того, чтобы быть на высоте, нужны мозги.
– Возможно, так оно и есть, – признал я и продолжил чтение, в то время как Кеннеди усердно корпел над своей лекцией. Я упоминаю об этом разговоре и потому, что он имеет отношение к моему рассказу по довольно необычному совпадению, и потому, что он показал мне еще одну сторону удивительных изысканий Кеннеди. Он интересовался бактериями не меньше, чем химией, а история эта связана как раз с бактериями.
Прошло, наверное, четверть часа, когда раздался зуммер на двери нашего холла. Представьте себе мое удивление, когда, открыв дверь, я увидел стройную фигуру очаровательной молодой женщины, которая была тщательно скрыта вуалью. Она находилась в состоянии, почти граничащем с истерикой, что заметил даже я, несмотря на свою обычную тупость.
– Профессор Кеннеди дома? – спросила она с надеждой.
– Да, мэм, – ответил я, открывая дверь в наш кабинет.
Она направилась к нам, повторив свой вопрос.
– Я профессор Кеннеди. Прошу вас, присаживайтесь, – сказал он.
Присутствие дамы в нашей квартире было настолько необычным, что я и в самом деле забыл о том, что нужно было исчезнуть, а занялся тем, что поправил мебель и открыл окно, чтобы выветрился застоявшийся запах табака.
– Меня зовут Эвелина Бисби, – начала она. – Я слышала, профессор Кеннеди, что вы умеете докопаться до сути сложных загадок.
– Вы мне льстите, – ответил он с чувством признательности. – Кто был настолько глуп, что сказал вам это?
– Один друг, который слышал о деле Керра Паркера, – ответила она.
– Прошу прощения, – встрял я, – я никоим образом не желаю вам мешать. Я, пожалуй, выйду. Я вернусь через пару часов.
– Пожалуйста, мистер Джеймсон… вы ведь мистер Джеймсон, не так ли?
Я с удивлением поклонился.

Если это возможно, я хотел бы, чтобы вы остались и выслушали мою историю.
– Если это возможно, я хотел бы, чтобы вы остались и выслушали мою историю. Мне сказали, что вы и профессор Кеннеди всегда работаете вместе.
Настала моя очередь смутиться от комплимента.
– Мне рассказала миссис Флетчер из Грейт-Нека, – пояснила она. Я считаю, что профессор Кеннеди оказал Флетчерам большую услугу, хотя и не знаю, в чем она заключалась. Во всяком случае, я пришла к вам со своим делом, по которому у меня мало надежды получить содействие, если только вы не поможете мне. Если профессор Кеннеди не сможет решить эту проблему, то, боюсь, никто не сможет.
Она сделала небольшую паузу, а затем добавила:
– Вы, конечно, читали о смерти моего опекуна на днях.
Конечно, читали. Кто не знал, что Джим Бисби, нефтяной магнат из Южной Калифорнии, внезапно умер от брюшного тифа в частной клинике доктора Белла, куда он был доставлен из своей роскошной квартиры на Риверсайд-драйв? В то время мы с Кеннеди обсуждали этот вопрос. Мы говорили об искусственности двадцатого века. У людей больше нет домов, у них есть квартиры, говорил я. Они больше не болеют старым добрым способом; более того, они даже снимают специальные палаты, в которых умирают. А для похорон арендовали залы. Удивительно, что они не арендовали могилы. Все это было следствием разрушения традиций в двадцатом веке. В действительности мы знали о смерти Джима Бисби. Но в ней не было ничего загадочного. Она была типичной для первого десятилетия двадцатого века в большом искусственном городе – одинокая смерть великого человека, окруженного всем, что можно купить за деньги.
Мы читали и о его подопечной, прекрасной мисс Эвелин Бисби, дальней родственнице. Когда под воздействием жары и волнения она приподняла вуаль, мы очень заинтересовались ею. По крайней мере, я уверен, что даже Кеннеди в этот момент начисто выкинул из головы лекцию о токсинах.
– В смерти моего опекуна, – начала она низким и дрожащим голосом, – есть нечто такое, что, я уверена, потребует расследования. Возможно, это всего лишь глупые женские страхи, но до сих пор я не рассказывала об этом никому, кроме миссис Флетчер. Мой опекун, как вы, наверное, знаете, проводил лето в своем загородном доме в Бисби-Холле, штат Нью-Джерси, откуда он вернулся довольно неожиданно около недели назад. Наши друзья подумали, что это всего лишь странная прихоть – вернуться в город до того, как лето закончится, но это было не так. За день до возвращения его садовник заболел тифом. Это обстоятельство заставило мистера Бисби вернуться в город на следующий день. Представьте себе его ужас, когда на следующее утро он обнаружил, что его камердинер тоже заболел. Конечно, друзья немедленно отправились в Нью-Йорк, затем они написали мне в Ньюпорт, и мы вместе открыли его квартиру в отеле "Людовик Кинз".
– Но на этом неприятности не закончились. Один за другим заболевали слуги в Бисби-Холле, пока не умерло пятеро из них. Затем последовал последний удар – мистер Бисби пал жертвой болезни в Нью-Йорке. Меня пока что болезнь обошла стороной. Но кто знает, сколько еще это продлится? Я была так напугана, что с тех пор, как вернулась, ни разу не обедала в квартире. Когда я голодна, я просто отправляюсь в гостиницу – каждый раз в другую. Я не пью никакой воды, кроме той, которую тайком кипячу в своей комнате на газовой плите. Дезинфицирующие и бактерицидные средства расходуются галлонами, и все равно я не чувствую себя в безопасности. Даже органы здравоохранения не снимают моих опасений. Со смертью моего опекуна мне стало казаться, что, возможно, все кончено. Но нет. Сегодня утром заболел еще один слуга, пришедший на прошлой неделе из пансиона, и доктор объявил, что это тоже тиф. Неужели я буду следующей? Может быть, это просто глупый страх? Почему болезнь преследует нас до самого Нью-Йорка? Почему она не прекратилась в Бисби-холле?
Мне кажется, я никогда не видел живого существа, которого бы так сильно одолевал ужас, какой-то незримый, смертельный страх. Поэтому вдвойне ужасно это было ощущать в такой привлекательной девушке, как Эвелина Бисби. Когда я слушал, я чувствовал, как это ужасно – быть преследуемым таким страхом. Каково это – быть преследуемым по пятам болезнью столь же неотступно, как ее преследовал этот брюшной тиф? Если бы это была какая-то большая, но видимая, осязаемая опасность, с какой радостью я бы встретил ее только ради улыбки такой женщины. Но это была опасность, которую могли преодолеть только знание и терпение. Инстинктивно я повернулся к Кеннеди, а в голове у меня была абсолютная пустота.
– Есть ли кто-нибудь, кого вы подозреваете в том, что он является причиной такой эпидемии? – спросил он. – Я могу сказать вам прямо сейчас, что у меня уже есть две теории – одна совершенно естественная, другая дьявольская. Расскажите мне все.
– Что ж, я рассчитывала получить по его завещанию состояние в миллион долларов, без всяких ограничений, а сегодня утром его адвокат Джеймс Денни сообщил мне, что было составлено новое завещание. В нем по-прежнему фигурирует один миллион. Но оставшаяся часть, вместо того чтобы пойти в ряд благотворительных организаций, в деятельности которых он, как известно, принимал участие, идет на формирование трастового фонда для Школы механических искусств Бисби, единственным попечителем которой является мистер Денни. Конечно, мне мало что известно об интересах моего опекуна при его жизни, но мне кажется странным, что они должны были так радикально измениться, и, кроме того, новое завещание составлено таким образом, что если я умру не имея детей, то мой миллион также переходит в эту школу – местонахождение не называется. Я не перестаю недоумевать по поводу всего этого.
– Почему вы удивлены – по крайней мере, какие еще у вас есть причины для сомнений?
– О, я не могу их выразить. Может быть, в конце концов, это всего лишь бестолковая женская интуиция. Но в последние несколько дней я часто думала об этой болезни моего опекуна. Это было очень странно. Он всегда был таким осторожным. Вы же знаете, что богатые люди не часто болеют тифом.
– У вас нет оснований предполагать, что он умер не от тифа?
Она заколебалась.
– Нет, – ответила она, – но если бы вы знали мистера Бисби, вам бы тоже показалось это странным. Он с ужасом относился к инфекционным и заразным болезням. Его квартира и загородный дом были образцовыми. Ни один санаторий не мог бы быть более чистоплотным. Он жил жизнью, которую один из его друзей назвал антисептической. Может быть, я глупая, но сейчас это все больше и больше приближается ко мне, и… я хотела бы, чтобы вы рассмотрели это дело. Пожалуйста, успокойте меня и уверьте, что ничего страшного нет, что все это происходит естественным образом.
– Я помогу вам, мисс Бисби. Завтра вечером я хочу спокойно отправиться в Бисби-холл. Вы позаботитесь о том, чтобы все было в порядке, чтобы у меня были соответствующие распоряжения, позволяющие провести тщательное расследование.
Я никогда не забуду немую и красноречивую благодарность, с которой она пожелала мне спокойной ночи после обещания Кеннеди.
После ее ухода Кеннеди еще около часа сидел, прикрыв глаза рукой. Затем он внезапно вскочил.
– Уолтер, – сказал он, – давай зайдем к доктору Беллу. Я знаю там старшую медсестру. Возможно, мы кое-что сможем узнать.
Когда мы сидели в приемной с толстыми восточными коврами и красивой мебелью из красного дерева, я снова и снова возвращался к нашему разговору, состоявшемуся ранним вечером.

