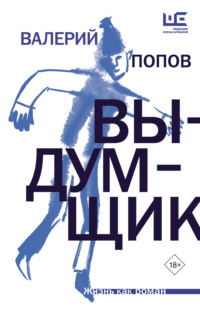
Выдумщик
Вернулся я оживленный. Батя на минуту переключился на меня:
– Ну что? Поживешь?
– Да!
– Тогда, может, и поработаешь тут? – обрадовался он.
– Можно, – согласился я.
Кто работает, тот – живет!
И вот я в конюшне. И ароматы – пьянят! Как будто я тут родился! Или, во всяком случае, был зачат. Как бередят организм запахи прелой упряжи, навоза – словно это было первое, что я вдохнул. Советовал бы парфюмерам сюда заглянуть. Кони гулко бьют копытами в стенки, косятся глазом, тяжко вздыхают: запрягать пришел? Едкий запах их пота, сладкий аромат сена… Рай!
Конюх устроил себе ложе в крайнем стойле – седла, чересседельники, хомуты и прочая мягкая кожаная утварь, брошенная на сено. Одно из уютнейших виденных мной помещений. Живут люди! Разумеется, хозяин лежал, развалясь, одна нога (в кожаном сапоге) привольно вытянута, другая поджата. Кнутом (кожей обмотана и ручка) он похлопывал по ладони. Властелин!
– Чего тебе? А-а. Директоров сынок. Запрягать, что ли?
– Да! – глаза мои, видимо, сияли.
Он надел на плечо хомут, взял чересседельник и остальную упряжь.
– Нравится тебе тут?
– Да!
Он кивнул удовлетворенно. Подошел к высокой белой кобыле с таинственной кличкой Инкакая. Такая вот Инкакая. Белая и могучая. Кося взглядом, попятилась.
– Стоять! – он надел ей через уши кожаную уздечку. – Подури тут мне! – вставил между желтых ее зубов в нежный рот с большим языком цилиндрическую железку, прищелкнул и, не оборачиваясь, повел кобылу за собой. Та послушно шла, стуча копытами по мягкому дереву и шумно вздыхая. Директорский тарантас стоял, выкинув вперед оглобли. Конюх, покрикивая, впятил кобылу между оглобель, хвостом к тарантасу, кинул на ее хребет чересседельник.
– Ну – запрягай! – он с усмешкой протянул мне хомут.
– А… – я застыл.
– Ну, тогда смотри!
Теперь я умею запрягать лошадь (и, надеюсь, не только лошадь, но и саму жизнь). Хомут, оказывается, напяливается на голову лошади, а потом и на шею, низом вверх, и только потом переворачивается в рабочее состояние.
Отец, хоть и директор селекционной станции, запросто вышел к не запряженному еще экипажу (такой человек) и азартно поучаствовал в процессе, затянув подпругу, упершись в хомут ногой, что сделало вдруг все сооружение, включая оглобли, натянутым как надо, похожим на планер – сейчас полетим! И даже кобыла, словно приобретя крылья, зацокала нетерпеливо копытами и заржала. Отец сел в тарантас (он слегка накренился), протянул руку мне.
– Ну! Давай!
– Какой сын у вас! – восторженно проговорил конюх, подсаживая на ступеньку тарантаса меня.
– Какой? – отец живо заинтересовался.
– Нравится ему тут! – проговорил конюх-карьерист. Хотя какая карьера могла сравниться с его работой? Даже мое бурное воображение отказывало!
Я восторженно кивнул. Отец ласково пошебуршил мне прическу. Я смутился – и он, кстати, тоже. Стеснялись чувств.
– Н-но! – произнес отец с явным удовольствием, и сооружение тронулось.
Мы поехали по полям. Отец держал вожжи, иногда давал их мне.
– Нравится?
Я кивнул. Прекрасные виды на работающих в полях!
Но пришлось слезть с этой высоты. На следующий день в шесть утра отец привел меня «на наряды» – распределение работ – и ушел к себе!
Ко мне подошел бригадир с острым облупленным носом (ну, конечно же, предупрежденный), поглядел, вздохнул.
– Ручной труд предпочитаешь… или на кобыле?
– …Второе! – пробормотал я.
– Второе тебе будет на обед! – усмехнулся он. – Но я тебя понял.
Восторг переполнял меня. Ожидание чего-то. Ловил хмурые взгляды: «Тебя бы сюда на всю жизнь – не лыбился бы!»
В воскресенье я, как прилежный мальчик, директорский сынок, стоял на берегу, над розовой гладью пруда, не отводя глаз от поплавка. В этом пруду (как уверял отец, вырытом еще пленными шведами) ловились даже лини – тонкие, матовые и без чешуи. Самые древние рыбы.
Пахнуло алкоголем. Но я уловил не только алкоголь… что-то из ароматов кинозала. Она! Обычно она была не одна. И очень даже не одна! Но сейчас – с подружкой. Встали вплотную за мной, едва не касаясь сосками моей спины. Даже тепло ее дыхания на шее! Перехихикивались… Но этого мне было мало, чтобы к ним обернуться. Или – слишком много? Все внимание – поплавку.
– Вот с этим пареньком я бы пошла прогуляться, – насмешливо проговорила ударница труда.
– Да ты что? – прошептала подруга. И зашептала совсем тихо, наверное: «Это директорский сынок».
– Ну и что? – грудным своим голосом, во всем его диапазоне, произнесла ударница порока. – Уволят? – добавила вызывающе.
Ей хотелось действий, а я стоял как пень. «Трудный клиент!» – как говорили мы с приятелями несколько позже.
– Встретиться бы с ним на этом самом месте… часиков в шесть! – произнесла она достаточно громко.
И они, хихикая, ушли. Уши мои раскалились. Я еще долго не двигался – вдруг они рядом. Наконец, расслабился, но не настолько, чтобы обрести здравый смысл… Долго, тщательно сматывал удочку – иначе нельзя! Но как ни мотай – от главной темы не отмотаться: «Что это было? В шесть часов? Через час?.. Не может этого быть!» И какова же была у меня сила воображения (при отсутствии воли), что я доказал себе: «Ну конечно же, она назначила в шесть утра! Можно много успеть!»
И я пришел в шесть утра! Хорошо, что она не начертала чего-нибудь на песке! Отправился «на наряды» с чистой совестью.
…Ось катка то и дело забивается грязью, каток (бревно) не крутится, и лошадь сразу же останавливается. Тяжелее тащить. Надо сгрести с бревен лишнее. Бока лошади «ходят». Устала. И вот – демарш: она поднимает хвост, маленькое отверстие под хвостом наполняется, растягивается, и «золотые яблоки», чуть дымящиеся, с торчащими соломинками, шлепаются на землю. Наматывать это на каток мы не будем, иначе этот аромат – и само «вещество» тоже – будут с нами всегда. Уберем вручную с пути. Ну что, утонченный любитель навоза? Счастлив? Да! Можно катиться дальше.
«А у меня есть выносливость!» – понял я.
Тут я дал слабину: съехал с лошадью к ручью – поплескать подмышки, умыть лицо. Ну, и побрызгать на лошадь. Кожа ее, где попадали капли, вздрагивала, она пряла ушами и вдруг заржала. Надеюсь, радостно. Но бревно впялить обратно на бугор долго не удавалось, вспотели с моей кобылой, хоть снова мойся. «Сладкий пот труда. Но двигаюсь не туда!» Этот каламбур я, решившись, сказал вечером отцу.
– И куда ж ты стремишься? – усмехнулся он.
И обнял за плечи. Для него это – максимум. Но я был счастлив. Хоть в грусти сошлись.
– Слушай! – он вскочил. Опять его гениальная идея стукнула. – Смотри!
Он выставил вперед два пальца – средний и указательный, один над другим.
– Вот это – ты! – он провел по среднему пальцу, торчащему горизонтально.
– Ну? – нетерпеливо произнес я.
Не нравится никому, когда его с пальцем сравнивают.
– А вот это, – он провел по указательному, задирающемуся вверх. – Твой друг!
– Какой это друг? – ревниво воскликнул я.
– Ну, неважно. Сначала вы вместе, рядом. Неразлучные вроде бы. Но он уже, – провел по указательному, – постепенно, сначала еле заметно, задирается вверх, поднимается! А ты… – он с гримасой отвращения провел по среднему, который не только шел ровно, а даже свисал – …нет! – безжалостно произнес.
И закончил любимой веселой присказкой:
– Видал миндал?
Веселится!
– А почему это я внизу?
– Хочешь наверху быть? Так поднимайся!
Новая школа! Ближе к дому… И – всё? Или это жизнь дарит подсказки? Ведь последний год. Наблюдая школьную жизнь, сообразил: новому ученику легче преуспеть. Пока есть еще к тебе интерес – и среди учителей тоже… Кто ты? Ответь! Отличник. Оживление в зале. И остается только уроки выучить, делов-то. Батя привел отличный пример: телегу трудно только с места столкнуть, а дальше она катится вроде сама! И ее скорее подтолкнут, нежели остановят: катится весело, глядеть приятно! Поэтому отличникам скорее добавят балл, а двоечнику урежут, если рыпнется. Все должны быть на своих местах. Иначе учителя с ума сойдут! Пока тебя не знают – можно стать любым. Телега жизни катится с веселым грохотом!
Иногда, конечно, тянуло назад. Хулиганы («с прежней школы», как сказали бы они) оказались с нежной душой! Были тронуты, что я именно их вспомнил из всех… но отличников и в новой школе хватало. А у этих… душа! Чуть не начал читать им свои стихи… но некогда было! Мы деловито шныряли в душном зале, освещенном лишь крутящимся шаром с блестками, в тесной толпе танцующих. Клуб фабрики «Лентрублит»! Только для избранных! «Смотри – эта годится?» – «Эта? Полы мыть!» Высокомерно уходим. Дела.
Спускаемся по черной лестнице вниз. «Тут без шухера!» – «Спокойно! – говорю я. – Водка прозрачная, и стаканы прозрачные. Никто и не увидит, что мы пьем!» Усмехаются. Настоящие друзья! Ценят! Не то что эти отличники (взять того же меня, но это – тайна), которые любят только себя. Но здесь я – другой! «Певец в стане воинов». Поэтому должен быть цел.
Что губит некоторых? Мне кажется, завышенные надежды на воздействие алкоголя. Выпил… и ничего. Разочарование. Деньги потрачены. И приходится добирать буйством. Впрочем – кто чем. Неформальный лидер наш, Костюченко, стойкий второгодник, пренебрегший знаниями ради свободы, выпив стакан, тут же окаменел на лестничной клетке. А его верный оруженосец Трошкин продемонстрировал, наоборот, необыкновенную подвижность: выпив стакан, пулей вылетел на улицу (может, подташнивало?) и, описав абсолютно правильный полукруг, влетел в сквер и упал на скамейку. «Подходяще!» – как говорил мой отец.
Убедившись, что с Трошкиным все в порядке, я вернулся к Костюченко. Стоит! И будет стоять! А я, похоже, – свободен!
Выпил ли я мой стакан, хотя ничто вроде бы к этому не принуждало? Да. Иначе все это выглядело бы не спортивно. Вдумчиво выпил. Ну, да. Омерзительно. Но не более того. Ничего трагического (лично для меня) тут не вижу. Мне кажется, большинство людей просто наигрывают, потому как надеются, выпивая, на нечто большее, чем есть.
Я огляделся окрест. Танцы, видимо, на сегодня отменяются. И я пошел домой. Умно, что я учусь в другой школе! А друзей моих буду навещать. Изредка. Прихоть эксцентричного миллиардера. Восторг! Может быть, он частично связан с употреблением алкоголя? Не исключено. Рассмотрим.
– Ты где был? – спросила мама, но не трагически.
Наверное, потому, что никакой трагедии не увидела.
И что-то мне подсказало, что говорить ей правду не стоит.
– В планетарии, – четко ответил я.
– Разве он ночью работает? – усмехнулась мама.
И добавила добродушно:
– Ладно. Иди спи.
И я почувствовал: какую-то проверку прошел успешно. И время от времени ходил к ним и, как ни странно, не стеснялся именно им читать свои первые стихи, простодушно одобряемые.
И все устроилось, жизнь пошла. И вдруг – сверхдлинный звонок в дверь. Но вроде бы зачет по алкоголизму я уже сдал? Пересдача? Открыл. Фека! Зачем? Еще один гость из прошлого? Но он же давал мне подержать свою финку… в трудный момент? Но тот момент уже миновал. Стоп! Он и сейчас может сгодиться… Кстати пришел. Не могу вспомнить, из какого писателя: «Привычно и целеустремленно пьян»? «Не столько приехамши, сколько выпимши!» – как шутили мы с друзьями-отличниками в новой школе. «Не в замше, но зато поддамши». Работа с Лёнькой, видимо, доконала его.
– Я должен… поблаго… дарить… Алеф-фтину Васильевну!
– О! Давай! – я втолкнул его в мамину комнату. – Вот, мама. Пришел поблагодарить.
Фека, уже только кивком, подтвердил свое намерение. Мама, как я и думал, обрадовалась.
– А, Фека! Садись.
И он сел. Кстати – на мой стул. Для меня – табуретка.
Мама сидела за столом в сиянье настольной лампы. В круг света попадала и младшая моя сестра Оля, тоже за столом, а далее – мы. Исчадия тьмы.
– …Тогда я продолжу? – строго сказала мама.
– Конечно, мама! – сказала добрая Оля.
Мама у себя в институте, будучи председателем профкома, писала стихи к праздникам и ко дням рождения и лучшие помещала в стенгазете, которую рисовала сама. Но жизнь привела ее к прозе. Мама старалась читать ровным голосом, без нажима – как бы это сочинение не про нас. Но нажим все равно был!
«В круг света от настольной лампы вошла девочка с волевым лицом и упрямым лбом.
– Мама! – взволнованно проговорила она. – Я не понимаю, как образованный человек, доктор наук, член партии может бросить семью, в которой дети еще не кончили школу и не определили свою судьбу!»
Наверное, я должен спиться по этому сюжету? Не обещаю! А вдруг сейчас пойдет текст про меня? Перетерплю. Рассказ уверенно клонился к тому, что заблудший отец в конце вернется и покается… и слышать это было невыносимо. Не вернется он!
– Пардон! На секунду! – я вскочил, выбежал.
Не могу! Все равно слышно. Кинулся к туалету. Наверное, лучше не закрывать, чтобы они слышали плеск струи? Но и это меня не реабилитирует. Я шел назад… и остановился у двери.
– Да-а! Душевно, Алевтина Васильевна!
Рецензент! Я был убит. Кого я привел в свою жизнь?
– Вот видишь, Оля! – произнесла мама. – Я говорила тебе – у Феки есть душа! Он все понял!
Стоп! А у кого, значит, ее нет?
– А как же, Алевтина Васильевна, ваш сын? – проговорил Фека. – Пусть едет, разберется с отцом. Я пацанов могу подключить.
– Не надо, Фека! – вздохнула мама. – Он ничего не хочет. Я давно поняла: у Валерки закрытая душа.
Ничего себе. Мама говорит! Толчком, видимо, послужило то, что я съездил к отцу в Суйду уже после того, как они развелись. И – ничего не рассказал. Но зато взял у бати деньги, которые он мне сунул, смущенно проговорив: «Это тебе на год»! Но каково это маме? Говорила всю жизнь: «Да Егор безграмотный!» Так чего же ждала? А он при этом – доктор наук, автор знаменитых сортов проса, ржи! Поэтому и мои успехи она как бы не замечает: «Вылитый Егор». Какой я еще могу быть? Отца я на веревочке не привел – души нет. Мама права.
Фека трагически молчал – чем подтверждал ее мысли. Ход его!
– Можете рассчитывать на меня, Алевтина Васильевна!
– Ну, что ты говоришь, Фека! – она засмеялась.
Что-то я разгорячился… Но жить надо. И возьми себя в руки. Я открыл дверь и вошел, с фальшивой улыбкой, как и положено человеку с закрытой душой.
Фека, весь выложившись, дремал. И впервые я поглядел на него с завистью. Если бы я столько выпил – тоже, может, был бы с открытой душой? Нет. Навряд ли.
– Все! Подъем! – я растолкал его. – На выход! Мама, я провожу его?
Мама вздохнула. Конечно, грустно расставаться с душевным парнем. Но не селить же его? Спустил Феку с лестницы. В хорошем смысле. И когда мы вышли, я рассказал небрежно о суйдинских впечатлениях.
– Ха! – произнес Фека. – Приезжай завтра на Шкапина – всё будет!
Ну просто добрый ангел нашей семьи.
И я поехал на Шкапина. Ни черта тут не обнаружить. Закопченные паровозным дымом дома без каких-либо указателей. Друг мой предупредил, что рядом находится – не отличить – аналогичная улица Розенштейна, тоже революционера. Но там – враги. «Могут на перо взять, легко». Конечно, заманчиво. Но приехал я за другим.
«А шкапинские, что ли, меня пропустят?» – «Сошлись на меня. Меня любая собака знает!» – «А вдруг она с Розенштейна забежит?» Но это жалкая моя шутка была оставлена без ответа.
Смотрю… Встречаются дома с выбитыми стеклами, необитаемые. Табличек ни на одном доме нет. И день неудачный, холодный. То ли дело – удушливая атмосфера кинозала в родной Суйде! – вспомнил с тоской. Даже метро «Балтийская» с его серо-холодным вестибюлем, вызвавшим у меня озноб, когда я там вышел из вагона, манило обратно своим светом и теплом. Но если возвращаться – не приеду никуда никогда.
И я шел – не по враждебной ли улице? Впрочем, и шкапинские могли меня «принять» – Фека, я чувствовал, преувеличивал свою власть. Где обещанные доступные красавицы? Прошло лишь непонятное грязное существо неопределенного пола – и всё.
«Кончай сухой мандеж!» – как говаривал Фека. И я вошел во двор с цифрой «13» на стене дома. Без названия улицы. Смерть? В углу неприветливого двора стояла шобла. Каждая эпоха находит правильные слова для сборищ и правильно одевает: поднятый воротник, скрывающий лицо, зловещая вспышка сигареты, натянутая кепка, чтобы не запомнили, если что… Как раз «если что» мне и светит. Смотрятся!.. Шпанский шик! Но у меня не было ощущения, что я приближаюсь к блаженству. И надо их как-то опередить!
Спертый воздух хулиганских дворов. И вот огоньки завспыхивали чаще: надо скорей докурить – и за дело. «Карась заплыл!» Бежать было бесполезно – наряду с другими отточенными навыками той поры отлично работали всяческие подножки, подсечки, после чего преследуемый не падал, а влетал головой в какую-нибудь каменную стену, разбивал лицо в кровь. А если «кровянка» – значит, враг. Дальнейшее предсказуемо. Поэтому я сам кинулся к ним.
– Парни! Клево! Нашел вас! Где пузырь тут купить? К корешу иду – не с голыми же руками?
– А что за кореш? – поинтересовался длинный.
– Да Фека Шашерин! – я сплюнул.
Чтобы можно было еще повернуть, что я ищу его с целью мести.
– А-а! Этот! – орлята переглянулись, как мне показалось, зловеще.
Я похолодел. Розенштейновские? «Сейчас тебе оторвут самое то, что тебя сюда привело!» – я пытался острить, хотя бы с самим собой.
– А сам ты чей?
– С Лиговки!
Еще плевок.
– Не мути! Я там всех знаю! – сказал самый «возрастной».
Но тут из парадной вышел Шашерин.
– Пошли!
С шоблой не поздоровался. Хоть и шкапинские, родные!
– Мелкая сошка! – ответил на мой вопросительный взгляд.
Но и эти мелкие могут вломить – спиной чувствовал. Напряженно здесь. Шли наискось через пустырь. Последнее тепло выдувало ветром. Всякое желание – тоже. Да, затяжные тут «любовные игры».
– Я понимаю, что я по деньгам тебе задолжал.
– Возьму натурой.
– А! – вспомнил он с неохотой. – Тогда тебе сюда! – пренебрежительный жест в сторону общежитий, выстроившихся в ряд.
Бульвар наслаждений!
– Разберешься?
– А есть что-нибудь экзотическое? – я стал фасонить.
– С прядильно-ниточного комбината – устроит тебя?
– Безоговорочно!
Мы вошли в предбанник общаги.
– Лучшие, конечно, намотчицы! – уверенно Фека излагал. – Шпульщицы… нормальные. Сновальщицы… Ничего. Ну, тазохолстовщицу учить надо от а до я! Тебе, я думаю, надо лет под шестьдесят, с опытом! – духарился он. – Ну как, баб Нюр, – обратился к вахтерше в ватнике, – нравимся мы тебе?
– О! Нафраерился! С чего это?
– Бросил пить и приоделся! – произнес Фека лихую присказку, с которой прошел потом всю жизнь. – Ну что, баб Нюр, пропустим ученика? – кивнул на меня.
– Я и тебя-то не пропущу! – свирепо проговорила она. – На танцы в школу иди!
Я почувствовал вдруг огромное облегчение… Откладывается!
– Пойдем. Тут, видимо, по талонам! – сказал я.
– Ладно! – Фека дернул меня за рукав. – Финт!
Мы вышли на крыльцо, и тут же он вернулся назад.
– Баб Нюр! – закричал он. – Там эта ваша… валяется!
– Так кто ж это такая-то?! – она выскочила.
И мы прошли.
– Финт ушами! – прокомментировал Фека, подмигнув.
Кто не знает: финт – это обманное движение в спорте. Однако никого, кроме бабы Нюры, в этот вечер нам обмануть не удалось. На третьем этаже в красном уголке, где проходили предварительные знакомства, вместо желанных гурий нас встретили курсанты морского училища. «Как прошли бабу Нюру?» – задал я наивный вопрос. «А кто это?» – был ответ. Для них после практики на парусных судах не было проблемой попасть на третий этаж через фасад. Наш «финт ушами» лучше было даже не обнародовать. «Не любите, девки, море, а любите моряков, моряки дерутся стоя, у скалистых берегов!» – вот что пришлось нам узнать. После короткой «тёрки» мы были выброшены – к счастью, не через окна, в которые проникли они, а сухопутным путем, по ступенькам. Слегка приведя себя в порядок, мы вышли.
– Спасибо, баба Нюра! – небрежно бросил Фека, выходя.
– Не за что! – насмешливо проговорила она.
Мне показалось это обидным. И Феке, видимо, тоже.
– Ничего! – зловеще произнес он. – Ты у меня чпокнешься как миленький! Пиши адрес!
И он, подчеркивая свое всемогущество, сплюнул.
Путешествие поначалу казалось не очень удачным, но оказалось – кровавым. Закончились улицы, а трамвай все шел. «Ни одного встречного трамвая! Путь в один конец?» Но уныние – это еще цветочки. Есть страдания посильней. Дом Нельки, деревянный барак, был на виду. Еще говорят – «на юру». Цепляешься за слова? Не помогут! Коридорная система. Первая дверь. В испуге стал колотить. Открыл могучий рябой мужик в подтяжках. Угрожающе усмехнулся.
– К тебе, что ли? – крикнул он, обернувшись.
– Дом выстудил! – появилась Нелька в халатике.
Первое впечатление: яркая!
– Придавить его? – мужик показал на меня.
– Иди, Вася! Жена заждалася! – Нелька была в ярости.
– Все делай, как я сказал! – произнес он грозно.
– Потом! И – за углом! – дерзко отвечала она.
Мне Нелька определенно нравилась.
Мужик, усмехнувшись и надев какую-то непонятную униформу, ушел.
– Ну? – Нелька повернулась ко мне.
Красивое лицо. Сама щуплая.
– От Феки! – я произнес. – Велел… – тут я слегка замялся, ища удачный синоним.
– …дать? – подсказала она.
Я задумался. Этот синоним мне тоже не нравился – но мы же не на конференции?
– Пожалуй, да! – благожелательно произнес я.
Похоже, мы найдем общий язык… Но язык-то я как раз прикусил в результате удара. Хлестко. Отработано.
– На! – воскликнула она.
Я залился кровью. И вылетел в общий коридор. Умылся в многоместном сортире и, шмыгая носом, ушел. Настроение, как ни странно, было отличное. И что-то подсказывало: не назови я Феку, могли бы быть варианты… О, да!
Фека явился ко мне и, что радовало, тоже с разбитым носом. Вышла и мама.
– Здран-нствуйте, Ален-нтина Васин-ньевна! – гнусаво (нос опух) проговорил Фека.
– Вы что – носами столкнулись? – весело сказала она.
– Да! В темноте! – мрачно проговорил Фека.
– Ты темным делам Валерку не учи, понял? – пригрозила она.
– Скорее, я его научу светлым! – пообещал я, даже не подозревая, что говорю правду.
Я читал книгу – и вдруг какой-то резкий звонок! Телефон – давно это заметил – звонит по-разному.
– Валерий!
Голос мамы. Но почему так строго? Из какого-то учреждения звонит? Да! И причем – из какого!
– Я в милиции сейчас нахожусь!
Первый был испуг – маму ограбили. Фека? Но не такой вроде он человек. А какой же?
– Я сейчас приду.
– Отделение на улице Розенштейна.
– Розенштейна? Это опасно! – вырвалось у меня.
– Я знаю! – хладнокровно сказала мама. – И даже знаю, что ты здесь бывал.
Фека накапал… Ну, друг!
– А что случилось-то? Может…
– Приезжай! – оборвала она. Была у нее такая привычка: не дослушивать. Знала наперед – и все остальное отвергала.
Примчался. А вот и друг. Чем-то снова обижен. Несправедливостью! Чем же еще?
На столе милиционерши, правда, лежали шуба рыжего цвета и одна интересная художественная композиция: разрисованные бумажки, по краям – настоящие червонцы. Талант, Фека-то наш! Отец «кукол»!
– Вот – настоящий фармазон растет! – проговорила инспекторша; Фека приосанился. – Раньше у Рябого затырщиком был, теперь вышел на самостоятельную дорогу! У женщины шубу увел.
– Она сама отдала!
– В колонии будешь петь! Вы что-то хотите сказать, Алевтина Васильевна?
– Ты позвонил мне! – мама обратилась к Феке. – И зачем?
Что удивительно – с мамой он заговорил совершенно иначе.
– Да заставили меня! Заболел там… один. Я учиться хочу.
– Чему? – спросила мама.
– Вот, – и он почему-то указал на меня.
– Это похвально! – произнесла мама. – Да, – она повернулась к инспекторше. – Мы с Валерием ручаемся за него. Берем шефство!
– А ты, Валерий, что скажешь? – спросила инспекторша.
– Готов! – сумев подавить ярость, произнес я.
И как всегда – податливость наказуема!
– Как же ты допустил такое? – накинулась она на меня. – Твой друг прогуливает школу, хамит учителям, а недавно был уличен в краже денег у учащихся. Твой друг!
Для дружбы, я бы сказал, это опасно. Особенно – бесцеремонность его. Насчет тех, «кого мы приручили», граф Экзюпери, я думаю, погорячился. И если бы не мама… с комсомольским задором ее!
– Аттестат зрелости он получит у нас. И за поведение мы тоже ручаемся! – опередила она мой ответ. С которым я, собственно, и не торопился.
– Мы – команда! – Фека вдруг вскинул кулак.
Где научился?
На первое наше занятие он вообще не явился, на второе – еле дополз, с опозданием на час. И тут впервые увидал меня в ярости – и даже испугался. Хотя шкапинские, по его мнению, не боятся ничего.

