Он склонил голову и принялся теребить кромку скатерти:
– В общем, я хочу сказать, что… человек иногда готов даже жизнью своей пожертвовать ради того, чтобы не только ему было хорошо, но чтобы осуществилась его мечта о благе всего человечества.
Часовщик вскинул брови и произнес:
– Тю-ю.
Фотограф взглянул на него:
– Что вы хотели сказать?
– Ничего, – откидываясь на стуле, ответил Дюрица и принялся изучать потолок.
– А у меня, знаете ли, – сказал хозяин трактира, – всегда было желание развести где-нибудь такой же сад, как во Франции возле одного большого дворца. Его называют Версалем, там еще мир заключали. Подростком я как-то работал у одного барина подручным садовника. Вот кто мастер-то был. Два года я отработал при нем и, надо сказать, не жалею. Он рассказывал мне про этот дворец и про тамошние сады. Показывал фотографии. Одних только розовых кустов там постоянно выращивали девяносто тысяч. То был не обычный парк, но ансамбль из садов и парка, то есть сперва от дворца идут правильные ряды клумб, деревьев, кустарников да пруды, фонтаны и все такое, и только потом уже – настоящий пейзажный парк, роскошный, в английском стиле, с беседками, мостиками из неотесанных бревен – ну, все как у наших князей Эстерхази. Так вот я, представьте себе, принял такое решение: ни за что не умру, пока не сотворю такое же чудо и пока не увижу своими глазами тот сад в Версале. Ну и что из этого вышло? Ничего. А ведь это было мое единственное истинное желание. Но я уже позабыл о нем – пропадай оно пропадом. Что я теперь могу? Я так понимаю: если за то, чтобы сад тот увидеть да потом у нас дома устроить такой же, пришлось бы совестью поступиться, я отказался бы. Для какого-нибудь магната исполнить такое желание – все равно что мне шаг до стойки ступить, но уж лучше все пусть остается как есть, лишь бы не проклинали меня потом и чтобы за жизнь свою не дрожать, мало ли кто на мое место позарится, так что и сон потеряешь. Да провались оно все к чертям, спокойный сон мне дороже.
– Так, как есть, оно всегда лучше, – подхватил столяр. – Хорош бы я был, если б глядел на людей из окна машины, как они суетятся на улице, и не было бы мне до них никакого дела. Чего уж хорошего. Вы правы, господин Кирай.
– Вы можете надо мной смеяться, – сказал трактирщик, – но признаюсь вам откровенно: бедность не радость, конечно, но меня успокаивает, когда я такой, как все, и делаю то же, что остальные. Это как в теплой воде плескаться – такое же чувство. Довелось мне однажды с супругой отправиться в кинотеатр «Форум», ну, вы знаете, место приличное, там обычно премьеры показывают. Не помню уж, какой шел фильм, но подходящих билетов нам не досталось, оставались только самые дорогие. Что ж, говорю, пойдем. Оказались мы среди элегантной публики, на самых роскошных местах. Ну, скажу вам, так отвратительно мне никогда еще не было. И откуда только такие чудаки берутся? Хотите верьте, хотите нет, они даже смеялись не в тех местах, где смеялись другие. Когда нас с женой разбирал смех, они начинали шикать, а в перерыве глядели на нас с таким презрением, что мы потом уже и дохнуть боялись. Так всю картину и просидели не шелохнувшись, не знали, что может им не понравиться. У меня воротник от пота намок. Черт поймет, что за люди такие.
Швунг воздел кверху палец:
– А я так скажу, господа: не надо ими вообще интересоваться.
– Да ведь беда не в том, что мы ими интересуемся, – возразил дружище Бела. – Мы, может, плевать хотели на них с высокой колокольни. Беда в том, что это они вечно нас достают. Когда надо и когда не надо. То одно делай, то другое, плати государству за это, плати за то, встань сюда, встань туда, а теперь иди воевать, потому что мы тут великое дело задумали, которого тебе не понять, ты ведь даже не знаешь, когда надо в кино смеяться; а то скажут, на крестный ход иди, то флаг на доме повесь, то сними флаг, то хлеб получай по талонам, то вдобавок еще и жир, то скажут, верь мне, а потом – верь главарю другой партии, которого премьер-министром назначили… как будто ты попка. Или петрушка на ниточках.
Ковач улыбнулся:
– Это, друг Бела, надо как град принимать. Он идет, когда ему вздумается, – ничего супротив него не поделаешь! Так уж заведено с тех пор, как мир стоит. Побьет человека градом, а он отряхнется, будто собака, и дальше пойдет. Других вариантов нету.
– Ну, можно еще попытаться головой стену пробить, – заметил книжный агент. – Но если коротко, то мир представляет собой огромную армию. В ней – миллионы простых солдат, над ними сотни тысяч дуболомов – старшин и сержантов. Выше стоят офицеры, десятки тысяч, которые объясняют тупым сержантам, что им следует делать. Затем – несколько сот генералов да несколько маршалов. А выше всех – верховный главнокомандующий, фельдмаршал, генералиссимус или как там еще… званий они себе напридумывали – в каждой стране свое. Так уж устроен мир. Ну и что в этом мире вы можете сделать? Вот вы, например, – он повернулся к фотографу: – Будучи рядовым, что можете в такой армии? Единственное, что вы можете, так это заткнуться и выполнять, что велит вам сержант или старшина. Не забудьте, общаться с вами будет не генерал – еще чего! – а сержант или даже ефрейтор. Ничего вы не сможете. Но секундочку. Погодите. Вы думаете, что раз старшина допекает вас и на правах младшего командира может выудить из котла мозговую косточку, то его положение легче вашего? Заблуждаетесь! Он ведь тоже делает только то, что приказывают офицеры. Ну а что эти офицеры, которые им командуют, позвольте спросить? Если они едят на белой скатерти и не там, где лопают рядовые, если у них на мундирах болтаются аксельбанты, то от этого их положение лучше вашего? Ничуть не бывало. Тоже ведь делают только то, что генерал прикажет. Чем они от вас отличаются? Вся и разница, что вами сверхсрочник командует, а ими генерал. Что с того? Каждый делает что приказано. Покорно благодарю за такое отличие.
– Но кое-какое отличие все же есть, – возразил Ковач, – когда генерал приказывает, это дело другое.
– Почему же, папаша? Не понимаю.
– Все так, как господин Кирай нам говорит, – поддержал Швунга дружище Бела. – Я бы добавил, что рядовой-то оказывается даже умнее, он ведь как рассуждает: я сошка мелкая, что старшина или другой сверхсрочник прикажет, то я и делаю. А этот офицер несчастный или генерал тот же, поди, думает мудрой своей головой, будто он на особом счету. Потому что приказ «шагом марш!» ему отдают иногда доверительным тоном. Смех и только! Как будто хоть что-то меняется оттого, что порой ему дозволяется вякнуть, хотя, правда, только вполголоса. Он думает, раз командует нижестоящими, то сверху уже не выглядит таким же ничтожеством, каким сам считает рядовых да сержантов?
Швунг кивнул:
– Все верно, дружище Бела. Я вижу, вы поняли, о чем разговор. А теперь представьте себе генералов да маршалов. Вы думаете, они в другом положении? С виду, конечно, они хоть куда – и спереди, и с боков увешаны разными прибамбасами да фитюльками. И выряжены как шуты гороховые. А только все это фикция. И они без приказа не пикнут. Но каждый из них думает, что он пуп земли и светильник разума. Вашему статскому советнику тоже ведь дозволяется только то, что велит министр, вице-губернатору – то, что велит губернатор, а губернатору – то, что прикажет премьер. Замечательная картина, скажу я вам. Но тогда уж я, рассудив по совести, скажу то же самое, что весьма разумно говорит себе рядовой солдат: мол, мое дело маленькое и не я пуп земли…
Столяр Ковач задумчиво кивнул.
– Истинно так. Не правда ли, все очень просто? – повернулся он к Дюрице.
– А то и проще, – сказал часовщик и, упершись спиной в спинку стула, приподнял одну ягодицу и звучно выпустил газы.
Кирай, уже поднявший руку в протестующем жесте, застыл в неподвижности. Фотограф повернулся ухом к часовщику.
– Господин Дюрица, – покраснев, сказал книжный агент.
– Я весь внимание, – откликнулся часовщик.
– Господин Дюрица, – повторил Кирай.
Хозяин трактира, опустив голову, ухмыльнулся. Ковач, хлопая глазами, уставился сначала на Дюрицу, потом – на Кирая.
– Я не желаю больше это терпеть, – воскликнул книжный агент. – Как можно сидеть за одним столом с таким человеком!
– А в чем дело? Вы поступаете с газами как-то иначе? – невозмутимо посмотрел на него Дюрица. – В петлицу вставляете? Или в карман прячете?
– Хоть теперь помолчали бы, – ударил по столу ладонью Кирай.
– А вы, пока тут сидите, не делали ничего подобного? Вы это хотите сказать? – спросил часовщик.
– Ну это уж слишком. Я протестую!
Ковач уставился в стол.
– Вы очень хорошо знаете, господин Дюрица, – сказал он, – что я уважаю вас. Но нельзя ли избавить нас от таких вещей?
Хозяин трактира тихо заметил:
– Могли бы уже и привыкнуть.
– К эт-тому н-невозможно п-привыкнуть, – от волнения стал заикаться Кирай, а затем обратился к фотографу: – Прошу вас, забудьте об этой… непозволительной выходке.
Он замолчал, теребя воротник пиджака. Затем, выпятив подбородок и покрутив головой, подтянул галстук и, чуть понизив голос, вновь обратился к часовщику:
– Ну честное слово, ведете себя как шкодливый мальчишка. Имейте хотя бы немного такта, если уж не имеете ничего другого. Мы хотим одного, чтобы вы считались с себе подобными. Неужто трудно понять?
– Продолжайте, пожалуйста, на чем вы остановились, господин Кирай, – попросил дружище Бела.
– Человек не затем садится беседовать с друзьями, – сказал Швунг, вздернув плечи и резко их опустив, – чтобы кто-то таким вот свинством… Эх…
Он потряс головой и обернулся к хозяину трактира:
– Что вы сказали, дружище Бела?
– Вы про армию не закончили.
– Мне к сказанному добавить нечего.
– Все именно так, как вы нам представили.
– Я просто пришел к заключению, что если мир устроен наподобие армии, где только последние идиоты верят, будто они могут действовать по собственному разумению, то в таком мире надо вести себя соответствующим образом. Много ли проку в том, когда рядовой попрет против приказа? Так не бывает. Помнится, как-то раз за четверть часа до увольнения сержант приказал мне вымыть загаженный кем-то клозет. Я возразил ему, мол, гадил не я и вообще наше отделение пользуется другой уборной, так он заставил меня вымыть все сортиры на двух этажах – и это в воскресенье после обеда, когда у меня увольнительная в кармане. А вдобавок составил рапорт, будто во время доклада об окончании уборки мое лицо выражало угрозу. Офицеру, вызвавшему меня, я объяснил, что со мной обошлись несправедливо, но тот заявил, что не позволит очернять армию, и отправил меня на гауптвахту. После этой истории я стал в нашей роте чучелом для битья, и не было подлости, которую надо мной не учинили бы. Ну и скажите, а в мире разве не так все устроено? Открыл рот – и ты уже без вины виноватый. Козел отпущения. Кто угодно может над тобой измываться. Одно слово поперек сказал, и тебе уже не дадут спуску, всю жизнь будешь, образно выражаясь, драить все на свете клозеты.
– А помните, что за история со мной на прошлое Рождество приключилась? – спросил столяр. – Про женщину и про то, как меня не прокатили на автомобиле?



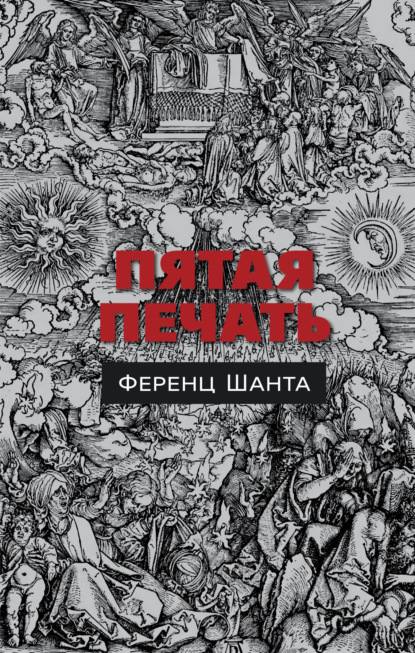




 Рейтинг:
0
Рейтинг:
0