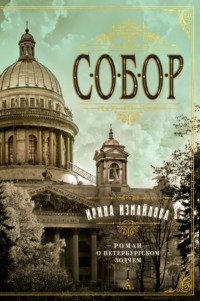
Собор. Роман о петербургском зодчем
Вигель улыбнулся:
– Бетанкур знает о вашем альбоме, будьте покойны. Еще когда вы две недели назад впервые здесь появились, он велел справиться, кто вы такой, и откуда взялись, и знает ли вас кто-нибудь где-нибудь. Вы в России, мсье, здесь нельзя без этого. Однако же, что греха таить, сам император никакого интереса к вам с тех времен не проявлял, а спрашивать его мнения по поводу устройства вашего в Комитет генерал, само собою, не станет. Но я действительно напомню его светлости, что император отнесся к вам благосклонно. Словом, вы можете рассчитывать на мою поддержку, но обещать ничего точно я вам не могу. Через несколько дней зайдите ко мне.
Этой фразой господина начальника канцелярии разговор, однако, не закончился, и полчаса спустя оба молодых человека вместе вышли на улицу и зашагали по нарядной, ослепительной в лучах июньского солнца набережной Невы.
– Куда вы направляетесь, мсье? – спросил Вигель, рассчитывая узнать, где поселился столь заинтересовавший его француз.
– Мне нужно сегодня еще сделать один визит, – с прежней своей великолепной улыбкой ответил архитектор. – Но сейчас… – тут он взглянул на часы, – сейчас еще рано. Быть может, вы позволите пригласить вас отобедать?
Из предыдущих речей Огюста проницательный господин Вигель легко догадался, что с деньгами у архитектора более чем трудно и что он находится сейчас на пороге самой отчаянной нужды. Кроме того, и щегольской костюм, так ловко сидевший на ладной фигуре мсье Монферрана, был все тот же самый, тот же, что поразил чиновников Комитета две недели назад, стало быть, он был единственный.
К чести своей, Филипп Филиппович несколько секунд медлил с ответом. Но тут же утешил себя тем, что отказ может обидеть француза.
– Извольте, – поклонившись, ответил он.
И они зашли в подвернувшуюся на пути ресторацию… Заказав превосходный обед для своего нового знакомого, сам Огюст почти не притронулся к еде, объяснив это тем, что пообедал перед посещением канцелярии и что вообще старается днем есть меньше, чем утром, ибо в его роду многие были склонны к полноте. Он только пощипывал шпинат да небрежно отпивал из бокала отменный темный портвейн.
«Ей-же-ей, лихой малый! – про себя подумал Вигель, уписывая зайчатину с укропом, наслаждаясь лещом в сметане и с тоской переполненного желудка посматривая на блины с медом. – Ей-же-ей, надо уметь так держаться!.. Но этак он к концу обеда упадет в обморок!»
Однако Монферран смотрел на господина начальника канцелярии с таким очаровательным и милым весельем, так непринужденно беседовал с ним, так равнодушно взирал на пустеющие тарелки и блюда, наконец, так спокойно отодвинул и свой шпинат, не съеденный даже до половины, что у Вигеля зародились сомнения.
«Кто его знает, а может быть, и в самом деле ему есть не хочется? Эдакое самообладание для неустроенного, мягко говоря, человека… притом же совсем молодого, невероятно… А впрочем, не старше ли он, чем кажется?»
Под каким-то благовидным предлогом Филипп Филиппович в разговоре осведомился, сколько лет его возможному протеже. И услышал:
– В январе исполнилось тридцать.
Вигель чуть не поперхнулся портвейном:
– Ба! И мне столько же… Но я вам не дал сразу больше двадцати пяти.
Огюст вздохнул:
– Боюсь, что мсье Бетанкур тоже. Такое уж лицо! Вы ему скажите, пожалуйста, что я не мальчик, как он, возможно, думает.
– Скажу, скажу, – смеясь, пообещал Филипп Филиппович.
Через некоторое время молодые люди дружески распрощались, и Огюст зашагал пешком по направлению к Конюшенной площади, неподалеку от которой, в одном из самых дешевых трактиров, находилось его нынешнее пристанище.
По дороге ему, как назло, все время попадались навстречу лотошники с пирожками и торговки сластями, вертевшие перед собою разноцветные связки пряников, и он мысленно посылал их ко всем чертям, ибо все его мужество ушло на угощение господина Вигеля, как и, увы, почти все содержимое его кошелька.
Когда он сворачивал с Невского проспекта на набережную Екатерининского канала, навстречу ему вдруг вывернулась летящая во всю мочь лошадиной четверки карета. Проезжая часть была в этом месте довольно узка, и ее почти целиком покрывали лужи, оставшиеся после недавно прошедших обильных дождей. С ужасом увидев широкий веер брызг, окруживший карету, Монферран шарахнулся от нее в сторону и почти вплотную притиснулся к стене дома. Однако брызги достали его, и несколько капель грязи задрожали на рукаве его фрака.
– Невежа! – закричал молодой человек вслед кучеру, одновременно выхватывая из кармана платок, чтобы успеть смахнуть капли, покуда они не впитались в ткань.
Карета остановилась. Из нее высунулся и обернулся назад господин в светлом цилиндре, с благообразным и тонким лицом, окруженным, будто клубами дыма, густыми, мастерски подвитыми бакенбардами.
– В чем дело, мсье? – спросил он с тем великолепным парижским произношением, которым, как успел убедиться Огюст, отличались все русские аристократы. – Мой кучер вас задел?
– Чуть не раздавил! – воскликнул архитектор, поспешно закончив манипуляцию с платком и убирая его, чтобы не выдать истинной причины своего отчаянного возгласа. – Велите ему, мсье, лучше смотреть на дорогу, не то ваша карета кого-нибудь да сшибет!
– Извините меня! – проговорил седок и, задрав голову к козлам, что-то коротко и негромко сказал кучеру, отчего тот побледнел и начал было какую-то робкую фразу, но хозяин оборвал его еще более кратким и на сей раз просто угрожающим окриком, после чего вновь обратился к Огюсту:
– Однако же, мсье, рад, что так удачно обошлось. Не беспокойтесь, я накажу этого разиню.
И тогда Огюст вдруг вспомнил, в какой стране он находится, и понял, что кучера ожидает не вычет из жалованья и даже не сердитая хозяйская затрещина, а наказание, очевидно, совсем иное…
– Ради Бога, ваша светлость! – вскрикнул он, успев рассмотреть на дверце кареты княжеский герб. – Прошу вас, не надо никого наказывать! Ваш кучер не виноват, я сам зазевался… Он ехал, как то положено, но я задумался и вышел из-за угла прямо вам навстречу.
Седок посмотрел на архитектора с некоторым удивлением, потом улыбнулся одними кончиками губ и пожал плечами:
– Как вам будет угодно, мсье. Но за что же тогда вы обругали меня?
– Не вас, а как раз кучера, и ни за что, а от досады, что пришлось так шарахнуться… Примите мои извинения, если отнесли это на свой счет.
– Я не обижен. – Господин в цилиндре учтиво кивнул и хотел уже захлопнуть дверцу, но вдруг спросил с интересом: – А вы, простите меня, недавно приехали в Петербург?
– Меньше трех недель назад, – ответил молодой человек. – А это так видно?
– Не особенно, однако же… Вы из Парижа?
– Да.
– И вероятно, службу себе ищете?
– Ищу, – ответил Огюст, несколько уязвленный неделикатной проницательностью хозяина кареты. – Однако если ваша светлость хотели предложить мне место учителя или гувернера, то это мне не подходит. Я архитектор по образованию.
– Вот как! – поднял брови любознательный вельможа. – И у вас хорошие рекомендации?
– Плохие, мсье, не то бы я уже устроился, а не бродил пешком по петербургским лужам. Но в будущем, надеюсь, удача мне улыбнется.
– От души вам того желаю, – засмеялся хозяин кареты. – Однако если все же фортуна вас обманет и вы вздумаете поискать более скромной службы, отыщите меня, это нетрудно. Я живу на набережной Фонтанки, в особняке напротив Михайловского замка. Меня зовут князь Лобанов-Ростовский. Запомните.
– Запомню, – с трудом подавляя раздражение, Монферран вежливо поклонился. – Но как знать, князь, быть может, вам придется разыскивать меня раньше, чем мне вас? Особняка у меня в ближайшие годы не будет, и я не знаю, где отыщу себе квартиру, однако представиться вам – теперь мой долг. С вашего позволения, Огюст де Монферран. И в ответ на вашу любезность я всегда к вашим услугам, если вам потребуется новый дом или загородная вилла.
И, еще раз откашлявшись, Огюст повернулся и зашагал дальше по набережной, стремясь поскорее миновать узкое место и выйти на площадь. Минут через пять или шесть он был уже возле трактира.
Трактирчик, маленький, деревянный, скромно, но ловко втиснувшийся между двумя каменными домами, был выстроен в два этажа. В нем было только пять номеров, и они все помещались на втором этаже, а первый был занят кухней, залой, помещениями для прислуги и комнатами хозяйки. Хозяйка, энергичная, еще не старая вдова, немка фрау Готлиб, жила в двух комнатах, вдвоем с незамужней девятнадцатилетней дочерью, которую мечтала побыстрее выдать замуж, и потому жила на небольшой пенсион, а доходы от трактира откладывала на приданое Лоттхен. Комнаты в трактире сдавались за небольшую плату, не то на них едва ли нашлось бы много охотников, однако хитрая фрау умела выудить из постояльцев деньги, предлагая им множество мелких услуг: стирку их белья, приготовление обеда, либо из хозяйской снеди, либо из той, что они сами себе покупали, отправку писем и все тому подобное, не говоря уже о ее собственных улыбках, реверансах, пожеланиях доброго утра и приятной ночи.
Войдя в трактир, Огюст постарался поскорее прошмыгнуть мимо залы, из которой доносились всевозможные кухонные запахи, но едва он поднялся на второй этаж, как ему ударил в лицо аромат куриного бульона, и он тихо чертыхнулся.
«Это проклятый чиновник из второго номера заказал себе курицу! – в сердцах подумал молодой архитектор. – Лентяй пузатый! Нет чтобы сойти вниз и пообедать в зале… В номер заказывает! Ишь ты, герцог! А что, интересно, ухитрился купить Алексей на оставленные ему десять копеек? И обедала ли Элиза или ждет меня?»
Он отворил дверь своего номера, и куриный запах буквально оглушил его.
– Что это значит?! – воскликнул он, от удивления прирастая к порогу.
В крохотной клетушке-прихожей, превращенной за неимением лучшего в привратницкую, на низкой лавке-лежанке сидел Алексей и старательно начищал вторую (и последнюю) пару хозяйских башмаков. Увидав Монферрана, он по привычке хотел было встать, но, заметив уже знакомое хозяйское движение, разрешающее остаться на месте, только чуть-чуть приподнялся и склонил голову в поклоне, отчего-то прикрывая ладонью левую щеку.
– Здравствуйте, мсье, – проговорил он по-французски, уже почти ничего не напутав в произношении.
Они с Огюстом вот уже три недели старательно учили друг друга своим языкам, и каждый обнаруживал успехи, тем более что обоим просто необходимо было выучиться побыстрее. Алексей оказался необыкновенно способен к учению. Он успел не только во французском языке, но и в русском: будучи совершенно неграмотным, он, едва оказался в Петербурге, Бог весть с чьей помощью в считаные дни выучил буквы русского алфавита. Он уже начал разбирать надписи на лавках и трактирах и пытался читать афиши на столбах. При этом у него был великолепный характер: мягкий и ласковый, он никогда не бывал назойлив, в нем не было даже тени раболепия, что казалось невероятным при том, какую школу юноша прошел у прежнего своего хозяина.
– Здравствуй, Алеша! – старательно выговорил Огюст давно выученное русское приветствие. – А что этот здесь так?..
И он показал себе на нос.
– Нос это, ваша милость! – с готовностью ответил слуга.
– Сам ты есть нос! Что такой вот это?
Он кивнул на дверь в комнату. Алексей развел руками:
– Жен се па[34], про что вы спрашиваете, мсье!
В дверях комнаты раздался смех, и появилась Элиза. Она не вышла в прихожую, потому что больше двух человек там не помещались, и Огюст сам поспешно шагнул ей навстречу.
– Откуда у нас такой запах? – спросил он, целуя Элизу, но через ее плечо заглядывая голодным взором в комнату, где на столе, покрытом простенькой скатертью, белела суповая миска.
Элиза взяла его за руку, втащила в комнату и усадила за стол:
– Ешь скорее, пока не остыло. Не знаю, что и думать, милый… Это ведь уже второй раз. То неделю назад откуда-то появилось мясо, когда денег совсем не оставалось. Потом я продала кольцо. Неделю деньги были. Сегодня кончились. Ну, завтра я собираюсь продать медальон…
– А без этого никак нельзя? – огорченно спросил Огюст.
– Никак, Анри, даже если ты вот-вот найдешь место. Но это все пустяки! Еще есть браслет и цепочка… Дело не в этом. Сегодня у Алеши было десять копеек, и вдруг он ухитрился заказать фрау Готлиб курицу, да еще вон пряников каких-то принес… И еще… – Она запнулась.
– Ну? – спросил Огюст, подвигая к себе тарелку, которую Элиза наполнила золотистым бульоном с аппетитной домашней лапшой.
– В тот день, когда появилось мясо, – прошептала Элиза, – Алексей пришел с разбитой рукой: прямо все пальцы были разбиты. Он прятал, да я-то увидела. А сегодня ты не заметил? На левой щеке синяк.
– Вот еще шутки! – растерянно и почти испуганно проговорил Монферран. – И что это все значит, а? Не таскает же он где-то этих кур?
– Что ты! – возмутилась Элиза. – Украсть Алеша не способен. Но это очень странно. Ты спроси у него. Может, тебе он скажет.
– Может, и скажет, да я не пойму, – задумчиво ответил Огюст. – Расспрошу-ка я хозяйку. По-моему, она знает все… Очень осведомленная особа. О Боже, какая вкусная курица!..
Фрау Готлиб в тот же вечер с легкостью разрешила сомнения своего постояльца. Она кое-как говорила по-французски и, смешно коверкая слова, охотно стала рассказывать:
– Все отшень просто, уважаемый! Зтесь рятом есть конюшень. Зтесь живет много-много исвосчик. О, русский исвосчик отшень большой трачун! Я много раз видель, как они тралься на спор. На теньги, увашаемый! Фаш слюга отшень смелый мальшик: он всял и поспориль с три фсрослый мушик, что мошет их положил на лопатки. И фсех, фсех полошиль! И выиграль у них теньги, и покупаль у меня курис, а я готовиль этот курис. Вот так. Этот спор мне рассказаль мой творник, он смотрель, как они тралься.
Вернувшись в номер, Огюст рассказал Элизе все услышанное от хозяйки, она, узнав всю историю, едва не расплакалась, однако сдержалась. Вскоре явился Алексей, спускавшийся во двор за водою для умывальника, и Огюст, подойдя к нему, указал пальцем на его синяк, который юноша на сей раз не успел прикрыть, и мягко, но твердо проговорил:
– Больше так нет делай! Хорошо?
Слуга удивленно заморгал:
– Это ж откуда вы знаете, барин?
– Нет «барин», – рассердился Огюст. – Су-хо-ру-ков твой есть барин. Говори «мсье», или как это здесь? А! «Сударь»! И вот это не надо… Я прошу тебя…
Он хотел сказать «приказываю», ибо выучил уже и это слово, но оно показалось ему ужасно длинным и неудобным, и он сказал «прошу» и при этом осторожно и ласково тронул рукою Алешин синяк.
Юноша спокойно взял его руку и, поднеся к губам, поцеловал так, как целуют ее отцу или матери, а не хозяину, и в глазах его, обращенных на Огюста, выразительных, полудетских-полуиконных, чуть раскосых глазах, было целое море чувств человеческих.
– Простите, сударь! – Алексей улыбнулся. – Не серчайте уж… На десять-то копеек какой уж обед? А вас ведь двое… Коли не хотите, так я вперед не стану. Буду делать все, как скажете. А вы-то как? «Травай»-то[35] себе сыскали али нет?
Огюст усмехнулся, услыхав такое смешение языков (это бывало часто и у него, и у Алеши), и в ответ беспомощно развел руками:
– Нет знаю, Алеша. Как это? Можно быть, да, а можно быть, нет…
Вигель сдержал свое слово: на другой же день он обратился к генералу Бетанкуру с надлежащей просьбой и употребил все свое красноречие, для того чтобы добиться ее исполнения.
Когда четыре дня спустя Монферран снова появился в канцелярии Комитета по делам строений и гидравлических работ, Филипп Филиппович встретил его очень радушно и, усадив, без предисловий изложил суть дела:
– Вот что я скажу вам, мсье: генерал сначала было не хотел меня слушать… его рассердила ваша уловка с фарфоровым заводом, ибо смысл ее он прекрасно понял. Однако я его понемногу убедил, что архитектору работать рисовальщиком и в самом деле обидно, и склонил к мысли взять вас в чертежную. Но только он заявил мне, что для должности начальника чертежной вы слишком молоды и у вас нет опыта, и хотел было определить вас просто чертежником, но я опять стал настаивать, и Бетанкур наконец уступил и сказал: «Хорошо, старшим чертежником, но только уж никак не начальником!» Вот вам его последнее слово, и очередь за вами. Что вы на это ответите?
– Разумеется, отвечу «да»! – произнес Огюст, у которого словно свалилась с души каменная гора. – Да, и большое вам спасибо! Но я докажу вам, что умею благодарить не только словами.
– Верю, верю, – улыбнулся Филипп Филиппович. – Впрочем, мне кажется, мы с вами станем приятелями, и у нас не раз будет возможность оказывать друг другу услуги. Теперь еще вот: жалованье вам пока не назначается, но вы будете получать компенсацию, она примерно равна годовому жалованью, около двух тысяч в год, даже чуть больше. Согласитесь, для начала неплохо… И, кроме того, мы вам предоставим, если желаете, казенную квартиру, недорогую и удобную, неподалеку от места службы. Вы довольны?
– Мало сказать доволен! Просто спасен! – вырвалось у Огюста.
И он так крепко пожал руку чиновника, что у Филиппа Филипповича потом некоторое время ныли суставы.
IV
Новый порыв ветра. Новое дикое стадо волн понеслось навстречу шхуне, и она, зарывшись носом в пену, на миг высоко вскинула корму, а потом, рванувшись, выскользнула наверх и запрыгала с одного пенного хребта на другой.
Вода прокатилась по палубе, схлынула, но фонтаны брызг опять взметнулись с обоих бортов и посыпались на мокрые палубные доски.
Алексей, прикрыв лицо углом воротника, потихоньку выругался, безнадежно посмотрел на взлохмаченный залив и повернулся к хозяину:
– Август Августович, ну, ей-же-ей, шли бы все-таки в каюту. Насквозь вымокнете. Простудитесь!
Огюст, не отрываясь от мачты, к которой прижался всей спиной и затылком, лишь чуть повернул голову и проговорил сквозь зубы:
– Отстань, ради Бога! В каюте не могу… Там еще хуже…
– Говорил же вам, едем берегом! – с отчаянием воскликнул Алеша. – С вами не сладишь, что с младенцем! Не остров ведь это, можно и по дороге проехать.
– Поди ты… – Архитектор резко повернулся к слуге. – Дороги развезло, дожди идут уже месяц… Неделю бы добирались! Нет, что же делать? А ты знаешь, Алеша, у знаменитого адмирала Нельсона тоже была морская болезнь.
– У Нельсона? – Алексей присвистнул от удивления. – Это у которого ни руки, ни глаза? Еще и болезнь морская? Ну уж и характер у него был, стало быть! Вот чисто у вас, Август Августович.
Августом Августовичем Монферрана записали в русском паспорте. Отчество по здешним правилам было необходимо, а давали его приезжим как придется, редко пытаясь исходить из действительного имени родителя, ибо оно не всегда для отчества подходило. И если из имени «Огюст» у чиновника паспортного стола очень легко получился «Август», то приделать окончание «ович» или же «евич» к имени «Бенуа» сей господин уж никак не сумел и, ничтоже сумняшеся, образовал отчество от того же имени. Получился Август Августович. Огюсту такое прозвище понравилось, оно звучало непривычно: солидно и забавно. Алеша же просто пришел от него в восторг.
В это время от носа шхуны, широко расставляя ноги, будто и не замечая качки, к ним подошел капитан, высокий плотный детина, весь завернутый в просмоленный брезент, с неугасающей трубкой, вросшей в светлые моржовые усы.
– Видали, сударь, как шалит нынче Балтика? – спросил он утробным басом, не без тайного ехидства глядя на белое, как известь, лицо своего пассажира. – И охота же вам ездить в такую погоду в этот Богом проклятый Пютерлакс? И еще пристанем ли при такой-то волне? Там причал ни к черту, да и бухта неудобная. Не пришлось бы назад заворачивать…
Он ожидал увидеть испуг на лице архитектора, но испугался только Алексей, что же до Монферрана, то сквозь его бледность тут же негодующе вспыхнул румянец.
– Вы получали уже от меня довольно, капитан, чтобы и причал, и бухта были вам удобны, – резко проговорил архитектор. – Уезжая из Петербурга, у нас был разговор об этот чертов погода! Или причаливайте, или отдавайте обратно все, что получали!
– Да что вы, сударь, право?! – Капитан выпустил из усов фонтан дыма и усмехнулся. – Уж с вами и не пошутишь. Будьте покойны, еще полчаса, и покажется ваш Пютерлакс, а там и причалим, как по маслицу пройдем.
И он, сохраняя достоинство, той же поступью зашагал дальше.
– Негодяй! – прохрипел Огюст, у которого на вспышку гнева ушли едва ли не все силы. – Тебе бы эту болезнь, ты тогда пошутил бы… «Заворачивать»! Я тебе заворачиваю! Не на кого напал!
– Не на того, Август Августович! – терпеливо поправил Алеша.
– О, оставь меня в покое! – уже по-французски взмолился Монферран. – Не до грамматики мне сейчас и не до синтаксиса, мой милый! Полчаса осталось? Нет, через полчаса берег только покажется! Сколько же еще выносить это, а?
– Надо было берегом ехать! – упрямо проворчал Алеша.
Они ехали в Пютерлакс уже в восьмой или в девятый раз. Невзрачное финское местечко под городом Выборгом неожиданно заняло в жизни Монферрана совсем особенное место. Его странное тусклое название обрело для архитектора необычайный смысл…
В карьерах Пютерлакса добывали великолепный коричнево-красный гранит, прочный и красивый. Его называли «рапакиви». Из него высекали пьедесталы и обелиски, им были во многих местах отделаны набережные Невы в державном Санкт-Петербурге. Из него Огюст замыслил изготовить невиданные доныне колонны… Колонны собора.
Шел тысяча восемьсот двадцатый год. Четвертый год его жизни в Петербурге. Четвертый ли? Ему то казалось, что он живет в России уже лет двадцать, то думалось, что он приехал месяц-два назад. Весь сонм событий, произошедших с ним в Петербурге, пронесся как ураган, и лишь одно-единственное, главное, в которое он и сейчас еще едва верил, могло занимать его мысли, его ум, его душу.
Он начал строить собор.
Теперь ему иногда казалось, что он предчувствовал это, втайне догадывался, что на него обрушится это неслыханное счастье. Но на самом деле все было не так. Начиная свою незаметную, трудную жизнь в столице России, он надеялся на успех, думал, что поднимется из безвестности, но о таком головокружительном взлете не мечтал – у него не хватило бы фантазии придумать такое…
На другой день после обретения долгожданного места в чертежной Монферран перебрался на новую квартиру, на Владимирский проспект.
Квартира, отведенная ему, помещалась на втором этаже недавно построенного трехэтажного дома и состояла из трех комнат: довольно просторной гостиной и смежных с нею кабинета и маленькой спальни. Большой широкий коридор отделял комнаты от кухни и скромной привратницкой, которая круглым окошком выходила не на двор и не на улицу, а на лестницу.
Сразу же начались всевозможные хлопоты, и пришлось наделать уйму долгов: квартира оказалась почти совершенно без мебели, и ее надо было спешно покупать, затем надо было нанять кухарку, приобрести столовую и кухонную посуду.
Кроме всех прочих ближайших расходов, Огюст счел необходимым сразу же подумать о деликатном и вместе с тем приличном подарке для своего нежданного благодетеля Филиппа Филипповича, ибо на его поддержку надеялся и в будущем. Кроме того, Алексей подсказал хозяину мысль о том, что необходимо заранее купить теплые осенние и зимние вещи, так как летом это обойдется дешевле, а лето в этих местах коротко…
Траты оказались солидными, но Монферран теперь не огорчался, надеясь на свой заработок и на свое умение обходиться малым. «Как-нибудь сэкономлю», – думал он.
В чертежной Комитета работало много опытных чертежников, и на молодого француза вначале посматривали удивленно и косо, однако он исполнял свою работу уверенно, со знанием дела, он был талантлив, это заметили все. Вскоре, к радости Огюста, это заметил и сам генерал Бетанкур.
Генерал все чаще вызывал к себе Монферрана, давал ему особо важные работы, порою спрашивал его совета. Инженеру поручали проекты самых различных построек, и он, занимаясь их техническим решением, архитектурную разработку нередко поручал Монферрану.
Впрочем, восторгаться Бетанкур не спешил. Он вообще не умел восторгаться. Его могучий блистательный ум, его тонкая, суровая натура не выносили восторгов. Даже талант он приветствовал лишь сдержанным уважением. Он сам был талантлив и знал это, как знал и цену слишком быстрым взлетам. Он верил только делам, и не одному, а многим.
Но, узнавая Монферрана все больше, председатель Комитета стал ему доверять. Доверять не только в том, что относилось к работе. Порою разговоры их стали касаться тем, далеких от строительства, Бетанкур начал расспрашивать молодого приезжего о прежней его жизни и иногда, как бы невзначай, говорил ему (правда, совсем немного) и о себе. И они, сближаясь, начинали нравиться друг другу.