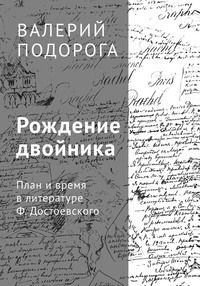
Рождение двойника. План и время в литературе Ф. Достоевского
Речь рассказчика строится как сообщение о происходящих событиях, и чем быстрее события («происшествия») сменяют друг друга, тем все более упрощенной, почти репортажной должна выглядеть речь, если она хочет поспеть за ними. Этим иногда и объясняет Достоевский свой отказ от «литературных красот». От сообщения требуется, чтобы оно было прозрачным и отчетливым, чтобы происходящее событие могло быть различимо во всех деталях.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Ф. М. Достоевский. ПСС («Идиот»). Ленинград, «Наука», 1973. С.338–339. (Везде разр. моя – В.П.)
2
Там же. С.181–182.
3
А. Г. Достоевская. Дневник 1867 г. М.: Наука, 1993. С. 234.
4
Ф. М. Достоевский. ПСС. Т.8 («Идиот»). С. 323–324.
5
Там же. С. 340
6
Эрнст Ренан. Жизнь Иисуса. С.-Петербург, 1906. С. 338.
7
См. например: Ю. Кристева. Силы ужаса: эссе об отвращении. Санкт-Петербург, Алетейя, 2003; J. Kristeva. Holbein’s Dead Christ – Fragments for a History of Human Body. N.-Y.:Zone, 1992. P. 240–269.
8
Это один из диалогов, которые Достоевский хотел ввести в основной текст романа «Идиот». (Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 9. («Идиот. Рукописные редакции». Л.: «Наука», 1974. С. 184.)
9
Там же. С. 195.
10
Ф. Ариес. Человек перед лицом смерти. Москва, «Прогресс», 1992. С. 341–342.
11
О том, как правильно расположить друг по отношению другу «производящие причины» см.: Ж. Делюмо. Грех и страх. Екатеринбург. Издательство Уральского университета, 2003, С. 124–129.
12
М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. Москва, 1963, С.93–98; его же: Эстетика словесного творчества. Москва, «Искусство», 1979, С. 314–316, С. 326.
13
В рассказе Л. Андреева «Елеазар» (подражание апокрифам Ж.Ренана) воскресший возвращается в мир, облаченный в мертвую плость, безумие от пережитой смерти отпечаталось на его облике, от него нельзя освободиться и тем самым заново обрести жизнь, которая была прежде, до смерти и воскресения (Л. Андреев. Полное собрание сочинений. Том 3. СПб.: Изд-во А. Ф. Маркса, 1913. С.87–104.
14
Это особого рода движение, которым обладают «нечистые» существа, и оно не соответствует никакой природной стихии, движение промежуточное, лишенной видовой определенности. Существа такого рода часто вызывают ужас, который смешивается с чувством омерзения и отвращения. «Всякий класс тварей, не имеющих приспособлений для правильного, соответствующего их среде типа передвижения, противоречит святости». (Цит. по: М. Дуглас. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу. М., Канон Пресс-Ц, Кучково поле, 2000, С. 91.)
15
Ф.М.Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи. Москва, «Наука», 1965, С. 62.
Надо заметить, что термин «жучок» применяется Достоевским не только к «хищному типу» и не только к особям мужского рода, но к женщинам или ко всяким явлениям характера, где существует эта раздвоенность между страстью холодной и горячей, непосредственной, иногда похожей на проявление нравственного чувства.
16
См. В. Набоков.
17
Сошлемся на свидетельство Шкловского: «Федор Михайлович любил набрасывать планы вещей; еще больше любил развивать, обдумывать и усложнять планы и не любил заканчивать рукописи.<…> Конечно, не от „спешки“, так как Достоевский работал с многими черновиками, „вдохновляясь сценой по несколько раз“. Но планы Достоевского в самой своей сущности содержат недовершенность, как бы опровергнуты. Полагаю, что времени у него не хватало не потому, что он подписывал слишком много договоров и сам оттягивал заканчивание произведения. Пока оно оставалось многоплановым и многоголосым, пока люди в нем спорили, не приходило отчаяние от отсутствия решения. Конец романа означал для Достоевского обвал новой Вавилонской башни». (В. Шкловский. За и против. Заметки о Достоевском. М., 1957. С. 171–172.)
18
Предоставим слово архивисту: «Известно, что Достоевский при „выдумывании планов“ (как называл этот подготовительный период работы) обычно пользовался не одной, а двумя или даже несколькими тетрадями одновременно и, кроме того, нередко делал заметки на отдельных листах. Но и при заполнении одной тетради он часто писал не подряд, а раскрывал ее на любой странице, как бы торопясь зафиксировать новую мысль, образ или ситуацию. Достоевского не смущало, если страница была уже заполнена, он писал на свободных местах: на полях, сверху, снизу, между строк и иногда даже поперек уже написанного текста. Часто он переворачивал страницы слева направо или открывал тетрадь с обратной стороны и писал некоторое время в порядке, противоположном принятому им ранее, а потом вдруг переставал писать здесь и вновь переходил к началу тетради или к любой случайной странице другой тетради. Более того, в рукописях Достоевского не всегда легко установить последовательность записей, сделанных даже на одной и той же странице: иногда что-то написано в середине, потом сбоку, потом в верхнем углу, а между записями встречаются рисунки „пробы пера“. Но было бы неверно предполагать, что в таком обилии иногда беспорядочно расположенных и редко датированных записей нельзя установить определенной системы. Сам Достоевский, как известно, ориентировался в своих записях вполне свободно; иногда он оставлял ссылки на те страницы, к которым собирался обратиться при написании главы или сцены. Указывая на связь различных записей, Достоевский довольно часто ставил около них какие-нибудь одинаковые знаки (крестики, кружочки, цифры). Цифрами и стрелками он любил обозначать и последовательность текстов. Эти элементы графики, так же характер почерка, цвет чернил и т. д., помогают и исследователю читать тетради Достоевского в порядке их заполнения. Но главное, разумеется, не в этом. Главное, что позволяло самому писателю легко ориентироваться в массе черновых набросков и что вслед за ним должно помочь исследователю, – это развитие идеи и системы образов, запечатленное в рукописных материалах». (Л. М. Розенблюм. Творческая лаборатория Достоевского-романиста. – Ф. М. Достоевский в работе над романом «Подросток». Творческие рукописи. М., «Наука», 1965. С. 52–53.)
19
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 29 (книга 1). (Письма 1869–1874). Наука, 1986. С. 151.
20
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 28 (книга 2). (Письма 1860–1868). Наука, 1985. С. 240.
21
Там же. С. 208.
Ср. также: «Этот будущий роман («Житие великого грешника») уже более трех лет как мучит меня. Но я за него не сажусь, ибо хочется писать его не на срок, а так, как пишут Толстые, Тургеневы и Гончаровы. Пусть хоть одна вещь у меня свободно и не на срок напишется». (Там же. С. 151.)
22
Вот, как, например, размышляет о манере письма Достоевского Андрей Белый: «Что на первых страницах казалось вполне кавардаком, вполне пирамидой случайностей, кое-как сброшенных в кучу, теперь раскрывается замыслом, как предысчисленным планом строения, промеренным, взвешенным с инженерной точностью и педантизмом; распределение тяжестей всех впечатлений, нагрузка внимания читателя множеством частных деталей показывает не один только гений, но ум наблюдающий, знающий душу читателя, в ней гравитирующий точку центрального замысла до появления ее; от того она – точка, поставленная после фразы последней, поставленная в центре кружева переплетенных мотивов…». (А.Белый. Душа самосознающая. М., Канон, 1999, С.265–267.) Важный момент поиска: центральная точка в технике планирования; а она блуждает, ацентрирована, скользит и часто теряется, да ее, собственно, и нет никогда на месте. Отсюда невозможность «строгого и расчетливого» планирования; персонажи ускользают от завершающего определения их характера и не наделяются правдоподобными личными качествами. Конечно, всегда есть главный персонаж, некий центр повествования, чье движение передается в разных направлениях в виде ленты или линий, но постепенно и он теряет доминирующее положение из-за конкуренции с другими персонажами, которые становятся все более значимыми для автора.
23
Ж. Делез и Ф. Гваттари пытаются развести два плана: один, генетический, опирающийся на сверхэмпирическое единство, план трансценденцищ и другой, план имманенции, «природный», который в своей инволюции зависит от того, что планируется, от множества эффектов («чтойностей»), которые умножаются, насаждаются, сталкиваются. (G. Deleuze, F. Guattari. Mille plateaux. P., 1980, p. 325–333.) Важно отметить, что план имманенции толкуется как план чистого движения (и в этом смысле как абстрактный и сверхбыстрый). Достаточно остановить движение или замедлить время рефлексии, например, чтобы этот план сразу же попал в подчинение плану трансценденции, который поглощает любую динамику планирования. Можно ввести еще одно различие, чтобы повторить предыдущее, – между субъектным и объектным планом. Допустим, у меня есть план или я что-то планирую, и это именно тот план, который находится в моем ведении, план от субъекта, субъектныщ но есть и план, который мы изучаем как ставший, состоявшийся, который лишен субъекта, план объектный («пятилетний план», «план города», «план учебный» и т. п.). Далее, мы можем ввести новые предикативные схемы плана, например указать временную протяженность, актуальность и идеальность плана. Конечно, такого рода схемы могут ослаблять или усиливать различие понятий плана, но никогда не в силах его снять или сгладить.
24
Ср.: «Всякое полное описание поведения должно быть пригодным для того, чтобы служить перечнем инструкций, т. е. оно должно обладать характерными чертами плана, который может руководить описываемым действием. Однако, когда мы говорим о Плане на страницах данной книги, этот термин будет относиться к иерархии инструкций, и если это слово будет начинаться с заглавной буквы, то это будет указывать, что оно употребляется в этом специальном значении. Итак, План – это всякий иерархически построенный процесс в организме, способный контролировать порядок, в котором должна совершаться какая-либо последовательность операций». (Д. Миллер, Ю. Галантер, К. Прибрам. Планы и структура поведения. М., 1965, С. 46.)
25
Ж.-П.Сартр. Проблемы метода. М.: Прогресс, 1994. С. 185–186.
26
Обратим внимание на переход от чернового пред-текста (avant-text) к тексту (изданному) и далее к мысли, переворачивающей герменевтическую ситуацию с ног на голову. Если действительно опубликованный текст есть лишь одна из версий произведения, то могущество архива post mortem резко возрастает. Чтение, а ныне это специальное филогическое умение, открывает новый горизонт для игры на отношениях между пред-текстом, богатым вариациями и обреченным на незавершенность, и текстом, получившим завершение в результате публикации. «В завершенном тексте смысл скрывается за разнообразными значениями. Но стоит лишь увидеть „беспорядочное движение“ черновика, как текст этой власти лишается. А потому, быть может, текст есть всего лишь один из способов интерпретации черновика, дающий возможность осознать его как нечто целое, скорректировать его отклонения, включить его в систему установленных соответствий. И тогда возникает основной вопрос: согласно каким законам и каким образом черновик в каждое мгновение одновременно провоцирует на отступление от правил и подчиняется определенным правилам?» (Э. Луи. Текста не существует. Размышление о генетической критике. – Генетическая критика во Франции. Антология. М., 1999, С.133.) Эта мысль кажется продуктивной. Хотя, надо признать, речь идет об обсуждении статуса интерпретации как выбора одного варианта из ряда возможных. Достоевский же планирует произведение, а не один из его вариантов, который потом должен оказаться единственным. План и есть идеальное произведение во всех аспектах его становления. Произведение – то, что становится, не ставшее. Но вот есть еще одна деталь. Произведение-Достоевский нечто большее, чем любое возможное «завершенное» произведение (роман или повесть автора по имени Достоевский). Поэтому планы отдельных произведений ничем не отличаются друг от друга, так как они относятся к имманенции Произведения, работа над планом которого не может быть приостановлена ни на мгновение. Нет никаких провалов или разрывов между планами отдельных произведений, скорее они накладываются друг на друга благодаря все тому же миметическому принципу, повторяющему собственные первоначальные условия.
27
Записные книжки к «Преступлению и наказанию» (издание, подготовленное И. Гливенко). С. 62–64.
28
Ф.М. Достоевский в работе над романом «Подросток». // Литературное наследство. Т. 77. М, 1965, С. 174–175.
29
План-сценарий как будто должен создать иллюзию быстроты в передаче свершаемых действий. На самом деле этих действий слишком много и они явно мешают друг другу. Да и можно ли говорить о действии, не принимая во внимание миметическую реактивность литературы Достоевского, – движение в целом? Конечно, нельзя, так как движения совершаются персонажами в границах психомиметической игры, я бы сказал, непрерывного челночного движения. Случайные движения – судороги, вскоки и прыги, метания и колебания, мимика – переходят в действия, а действия, организуясь в серии, формируют идейную основу для поступков (поведенческие и вербальные эквиваленты событий). Но и сила, влекущая повествование в обратном направлении, также не теряется: от поступков к действиям и, наконец, от отдельных действий к случайной бессмыслице и хаосу, двигательной истерике. Действие вторично (поступок персонажа еще влияет на изменение плана, но не на его отдельные действия). План произведения оказывается смыслозадающей инстанцией или, по крайней мере, таковым кажется: все события движутся в едином горизонте, которые автор и отмечает, словно зная наперед, чем все может кончиться, куда все движется, «валится»… На самом деле ему важно связать между собой лишь то, что происходит в данный момент, а не конечный результат взаимодействий. И никакие дополнительные конструкции помочь здесь не могут (нельзя нарушать принятый темп письма).
30
Надо заметить, что почерк Достоевского был разборчив. Во всяком случае, наборщики в типографии не жаловались. Да и по беловым рукописям заметно, насколько Достоевский имел осмысленное отношение (вполне каллиграфическое) к собственному письму. (См. например: М.А. Александров. Федор Михайлович Достоевский в воспоминаниях типографского наборщика в 1872–1881 годах. – Достоевский в воспоминаниях современников. С. 213–256.)
31
Федор Достоевский. Тексты и рисунки. М., 1989, С. 136–142.
32
Ф. М. Достоевский. ПСС. Том 8 («Идиот»). Л., 1973, С. 29–30.
33
Важные моменты автопастишей, автомиметизмов развернуты в анализах Ж. Женетта. (См.: G. Genette. Palimpsestes. La litterature au second degre. P., 1982.)
34
Д. С. Лихачев. Литература – реальность – литература. Л., 1984. С. 104–105.
35
Ср.: «Готические рисунки, каллиграфические записи слов-символов эстетического кредо Достоевского и многочисленные „подписи“ и „росчерки“ писателя на страницах черновиков произведения – следы напряженной мысли романиста, созидающего свое, новое слово, отражение постоянно рефлектирующего сознания писателя-философа». (К.М. Баршдт. Достоевский. Комментарии к рисункам – Федор Достоевский. Тексты и рисунки. С. 167.) Это общее замечание мало что проясняет. Ведь следует понять соотношение в черновом варианте этих вторжений, получаем ли мы их значение и можем ли мы учитывать его в конструировании смысловых структур произведения или нет? Отсюда две точки зрения, которые естественным образом противостоят друг другу. Сакрализация Пушкина достигла сегодня заоблачных вершин, даже его «разоблачение», намеренная профанация образа действует в ее пользу. Конечно, сакрализация имени Пушкина началась не сегодня и даже не в 1937 году. Особенно заметны следы современной «сакрализации» в книге Т. Г. Цявловской (Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1980). Основной тезис: рисунки Пушкина столь же гениальны, как его поэзия; тогда в рисунках надо искать ответ на многие вопросы, касающиеся генезиса его образной системы. Пушкин как автоиллюстратор собственных образов и идей. Однако много ранее начинающемуся культу Пушкина активно противостоял Ю. Тынянов, указывая на круг менее известных поэтов пушкинского времени. В рисунках Пушкина он не находил ничего похожего на иллюстративный образ, напротив, рассматривал их как «пробу пера», как чисто моторные образы, спонтанно возникающие, похожие на явление автоматической криптографии. Другими словами, он развел видимое и читаемое (воображаемое) по разным сторонам: то, что мы видим, когда читаем, несводимо, причем ни при каких обстоятельствах, к тому, что мы видим, представляем или воображаем, не читая. (Ю. Тынянов. Поэтика. История литературы. Кино. М., Наука, 1977, С. 314.)
36
Опуская многие тонкости в тексте Ж. Деррида, посвященные анализу рисунков Антонена Арто (признаюсь, не всегда понятные), выделю лишь главную идею. Рисунки Арто могут интерпретироваться благодаря термину subjectile, который можно отнести к авторскому идиолекту (изобретение неологизмов), идиоматическим формам или к словам-чемоданам. Это слово непереводимо ввиду своего двойного строения: оно составляется из субъекта и тактильного качества («subject-tactile», subject-t-ile). Можно говорить об этом слове, как его использует сам Арто, как о слове, обозначающем что-то похожее на особый инструмент типа острого наконечника, дротика, метательного ножа или строительного прибора, который называют отвесом, – проектилем\ так на конце веревки привязан груз по форме снаряда; проектильными также являются пуля, стрела, бомба и т. п. Главный же момент интерпретации Деррида не в толковании, «расшифровке» самого слова, а в том, что в рисунках Арто мы находим точный графический эквивалент. Лист черновика Арто заполнен достаточно странными, я бы сказал, необязательными рисунками, лишь отчасти физиогномически узнаваемыми. Общим для них всех является движение, идущее от скриптора (пишущего) к белой поверхности листа, вертикально-отвесное движение, и все в нем как будто подчинено одной-единственной задаче: пробивать, пронзать, бомбардировать белую поверхность листа, и если на ней нанесены какие-то знаки письма, то и их. Но главное: пробивать. В рукописи доминируют различного вида отверстия, более того, тот же принцип нанесения ударов сохраняется в создании языковых структур, так называемой сюрреалистической зауми Арто. В таком случае чрезмерно напряженные согласные звуки, их непроизносимые отражения в сочетаниях на письме должны взрывать расчлененный и значимый, удобопонятный всем литературный язык. Сближать его с яростью и злобой крика. Иначе говоря, выразительные фрагменты действия subjectile позволяют понять, каким образом формируется поэтика «заумного», бессмысленно звучащего слова. (Р. Thevenin, J. Derrida. Antonin Artaud. Dessins et portraits. Gallimard, 1986, p. 55–57, p. 91–92. (На этот текст в начале 90-х годов мне указал М.Ямпольский).
37
Диктовать систематически Достоевский начал после женитьбы на А. Г. Сниткиной. Благодаря стенографической записи он смог выполнить условия контракта со Стелловским, когда буквально за месяц написал роман «Игрок». Стенография чисто «женское дело», почти как рукоделие (вязание или вышивание гладью), но и искусство, от которого зависят стилистические достоинства литературного текста. Вот, например, одно из писем его близкой родственнице: «Вот что: не хотите яи заняться стенографией, Р Слушайте внимательно, Сонечка, стенография есть искусство высокое, не унижающее ремесло (хотя таковых и нет совсем, по моим идеям), а дающая честь и огромные средства, обладающему искусством. Это искусство свободное, а следственно, женщины находят в нем свою дорогу (пример – Анна Григорьевна, которая, впрочем, далеко не успела усовершенствоваться, но непременно хочет продолжать, приехав в Петербург). Это искусство в лучших представителях своих требует даже очень большого и отчасти специального образования. Вы поймете это: составлять отчеты серьезных заседаний для газет надо человеку очень образованному. Мало передать слово в слово, надо обработать потом литературно, передать дух, смысл, точное слово сказанного и записанного». (Ф. М. Достоевский. Письма 1860–1868. Т. 28, кн. 2, С. 293.)
Понятно, что не стенографическая запись была причиной быстроты письма Достоевского. Всему виной техника планирования, а она рассчитана на передачу содержаний некоего события («о котором и рассказывается»), в то время как запись включает обязательную процедуру контроля над тем, как что-то рассказывается, т. е. достоверность случившегося. Достоевский, насколько это сегодня известно, ничего из своих произведений не переписывал в отличие, например, от Гоголя и Толстого. Скорее он решался отказаться от написанного и создать новую вещь, чем старался добиться большей эстетический ясности и завершенности сочинения. Достоевский пытался добиться такой скорости письма, которая позволила бы реальному событию совпасть с рассказываемым. Отсюда чрезвычайная значимость «обновляющего» планирования. (См.: Б. Н. Капелюш и Ц. М. Пошеманская. Стенографические записи А. Г. Достоевской. – Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения. Т.6, М – Л., 1961.)
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
