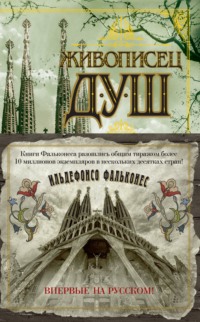
Живописец душ
Далмау поднял глаза к потолку: облупившаяся штукатурка, сгнившие стропила. Убожество.
– Тебя изнасиловали? – услышал он свой вопрос как бы со стороны.
Монсеррат не ответила.
– Помоги мне! Пожалуйста, – вместо этого взмолилась она.
– Кто это был? – допытывался Далмау голосом, звенящим от гнева.
– Их было много, – зарыдала Монсеррат. – Здесь заключенных продают дешевле, чем спрашивают старые шлюхи на панели.
Далмау лишился дара речи, все внутри сжалось, в горле застрял комок; юноша крепился, пока сестра была рядом и когда надзиратель их выпроводил из комнаты. Даже смог поцеловать ее на прощание и шепнуть, уже дрожащим голосом, что он ее отсюда вытащит. Слезы потекли, когда он пролезал под перекладиной у входа, а на улице, в двух шагах от тюрьмы, его вырвало.
Ноги у него дрожали. Сестру изнасиловали! Она не отрицала. Молодая, красивая девушка восемнадцати лет проводит дни и ночи в логове пропащих. Ей не полагается даже одиночной камеры, где она сидела бы под замком и в каком-то смысле под защитой. Не хватает места. Тюрьмы переполнены. Как легко было взять ее силой! Его снова вырвало при одной мысли об этом, но уже только желчью. Он обнаружил, что идет домой, и остановился перед входом. Мать почует неладное, взглянув на его лицо. Он свернул на площадь Каталонии. Ноги подкашивались, он содрогался всем телом, воображая, как Монсеррат… Прогнав эти мысли, сел в конку на низких колесах и с огромной рекламой пива, водруженной на крыше. Старомодный экипаж, который волокли два мула, вмещал пятнадцать человек и ходил по маршруту от этой площади до квартала Грасия. Оттуда, подумал Далмау, он легко доберется до фабрики.
Далмау заплатил пять сентимо за проезд и устроился среди простого люда, которому было не по карману ездить на электрическом трамвае, где цена за билет кусалась; ходил он по тому же маршруту, от порта; его-то и опрокинули Монсеррат и Эмма. Трамваев на конной тяге в Барселоне уже оставалось мало, за последние три года подавляющее их большинство заменили электрическими. Запряжные составы, как этот, идущий с Ла-Каталана, долго добирались до конечной остановки, ходили редко, двигались медленно, и люди вскакивали и выскакивали где хотели, что в электрических трамваях было запрещено. Далмау как-то даже успокоился, когда кучер дернул поводья, экипаж встряхнуло, и мулы неспешным шагом потащились вверх по Пасео-де-Грасия.
Он должен вызволить Монсеррат из тюрьмы. Этим самым утром, когда Хосе Мария Фустер сопровождал его, чтобы подкупить надзирателя, всякая надежда на то, что суд над сестрой состоится в обозримое время, развеялась прахом.
– Даже судьи нету, – сообщил адвокат. – Прежнего перевели в Мадрид, а взамен никого не назначили. Твоя сестра долго пробудет в предварительном заключении.
– Судья только один? – изумился Далмау.
Адвокат пожал плечами:
– Похоже на то. В этой стране армия – просто курам на смех, особенно после поражения в Кубинской войне.
Вызволить Монсеррат из тюрьмы до суда невозможно. Сидя между мужчиной, видимо плотником, судя по обилию опилок на одежде, и женщиной, которая везла в корзине пару живых кур, пока мулы так медленно тащили вагон, что, казалось, он вот-вот остановится, Далмау вдруг понял – только один из его знакомых в силах им помочь: учитель. Дон Мануэль – заметная фигура, у него влиятельные друзья среди монархистов, церковников и, разумеется, военных. Далмау знал, что учитель тесно общался с епископом Моргадесом, который умер в январе, но подружился и с его преемником, епископом Касаньясом, для которого предназначалась картина с молящимися прихожанками. Известны были и его приятельские отношения с генерал-капитаном: тот всегда приглашал дона Мануэля на свои приемы, да и в частной жизни они пересекались, на ужинах и торжествах. Далмау слышал об этом от самого учителя.
Тут ему захотелось, чтобы мулы встряхнулись и побежали резвее, но он, сидя между плотником и теткой с курами, вытерпел до проспекта Диагональ, который конка пересекала, направляясь к кварталу Грасия; распрощался с пассажирами и выпрыгнул из вагона, не дожидаясь остановки. Бодро зашагал по Диагональ, направляясь к фабрике изразцов и обдумывая по дороге, как заговорить на эту тему с учителем. Ни один вариант не подходил. Монсеррат – анархистка, а революционеры – заклятые враги каждого уважающего себя буржуа, располагающего деньгами. Но ведь она – сестра Далмау… Что окажется для дона Мануэля важнее, куда склонится чаша весов?
– Это безумие! – вопил учитель.
Далмау выслушивал эти крики, стоя перед столом в кабинете-мастерской дона Мануэля, в одной руке комкая шапочку, а вторую заведя за спину. За исключением административных документов, разбросанных по столу из резного дерева, в комнате не было ничего, кроме огромного количества работ дона Мануэля, и этот художественный беспорядок был бы приятен глазу, если бы не лишенные света тона, излюбленные учителем; были там изразцы, имевшие наибольший успех, или включенные великими архитекторами модерна в декор их зданий; розетки, рельефные изразцы, масса набросков и картины, множество картин, иные его кисти, другие – полученные в дар от друзей или попросту приобретенные.
Учитель вскочил с места.
– Такого не может быть! – снова заорал он. – Это неприемлемо!
Какие-то бумаги упали на пол, но дон Мануэль не обратил на это внимания. Далмау наклонился, подобрал их, разложил, как мог, на столе, понимая, что сейчас не лучшее время заводить разговор о сестре, о Монсеррат. Он зашел в кабинет к учителю, собираясь это сделать, но дон Мануэль начал разглагольствовать о политике и под конец совсем разошелся. В последние дни Далмау слышал, как продавцы газет кричали на улицах об этом деле, но не особо вникал, неотступно думая о Монсеррат, матери и Эмме.
Речь шла о прошедших несколько дней назад выборах депутатов в мадридские кортесы. Далмау голосовать не ходил. Как уже вошло в обычай во всей Испании, в том числе в Барселоне, городе, где голосовали тысячи мертвых душ, правящая верхушка, дабы обуздать выборы, прибегла к фальсификации ради победы монархической партии, которая защищала короля Альфонса XIII и его мать, королеву Кристину, регентшу при несовершеннолетнем сыне. Но монархисты не учли яростного сопротивления одного политика, республиканца, революционера, недавно прибывшего в графскую столицу, Алехандро Лерруса, который поднимал рабочих на борьбу своими пламенными речами. Леррус заявил о подлоге перед тысячами своих приверженцев; предупредил мадридское правительство, что такие действия со стороны касиков-монархистов в Барселоне и других каталонских городах пробуждают стремление к автономии, чего боялись в центре, и, наконец, поставил свою жизнь на карту: «депутатский мандат или смерть», провозгласил он под ликующие крики тысяч людей, которые его слушали.
Монархисты уступили, и начался пересчет голосов во Дворце депутатов, в зале Святого Георгия, битком набитом наблюдателями; большинство из них не сдвинулись с места за все пятнадцать часов, пока длилась процедура. Многие перекусывали там же, некоторые мочились под себя, чтобы не потерять свой стул. Леррус все время сидел прямо напротив председателя Избирательной хунты. Вместо пяти монархистов и двух регионалистов, избранных по подложным бюллетеням, после пересчета голосов прошли четыре регионалиста, два республиканца – Леррус получил-таки свой мандат – и только один монархист.
Впервые после реставрации Бурбонов рабочее движение в Испании вышло на политическую арену. До выборов 1901 года трудящиеся, неимущие были всего лишь статистами в игре, которую вели касики. Рабочие устраивали манифестации, случались стычки, более или менее яростные, объявлялись забастовки, террористы взрывали бомбы, но для правительства и властной верхушки все это означало лишь помехи, которые устранялись тем или иным способом. Леррус, отстояв два места в мадридских кортесах, открывал рабочим путь в политику, приглашал к участию в общественной жизни.
– Эти республиканцы, которые едут в Мадрид представлять Барселону, устроили манифестацию против Церкви! – возмущался учитель, воздевая руки, протягивая их к Далмау так, будто произошедшее находится за гранью его понимания.
Далмау опустил голову, уставился в пол. Он участвовал в той манифестации вместе с Монсеррат и Эммой. Около десяти тысяч человек на арене для боя быков в Барселонете требовали свободы совести, роспуска монашеских орденов, светского образования и отделения церкви от государства. «Больше никаких субсидий!», «Пусть берут плату за причастие!» – кричала толпа.
– Что станет со страной в руках антиклерикалов? – вопил в свою очередь дон Мануэль.
Далмау тяжело вздохнул. Учитель повернулся к нему:
– Что-то случилось, сынок?
Какая разница, когда он скажет, сегодня или завтра? Дон Мануэль так или иначе ненавидит революционеров.
– Арестовали мою сестру Монсеррат.
Теперь и дон Мануэль издал вздох. Тяжело, будто на него опустился небесный свод, рухнул в кресло, пригладил усы в том месте, где они соединялись с бакенбардами.
– На каком основании?
Если просить его о помощи, рано или поздно он все равно узнает, рассудил Далмау.
– Она набросилась на солдата, – сказал он. Дон Мануэль развел руками, дожидаясь объяснений. – Она призывала к забастовке фабричных рабочих, а солдаты удерживали ее.
– Мало ей было нарушать общественный порядок во время военного положения, она еще и набросилась на солдата.
– Укусила его, – уточнил Далмау. Учитель кивнул, прикрыв глаза. – Царапалась, пинала ногами.
Дон Мануэль продолжал кивать, будто все это видел въяве. Тут какой-то служащий просунул голову в дверь, которую не закрыл за собой Далмау, одновременно постучав по притолоке, будто извиняясь за вторжение.
– Что такое? – спросил учитель.
– Прибыл экипаж, дон Мануэль. Ждет во дворе.
– А, – вспомнил тот. – Сейчас иду. – Он смерил Далмау взглядом. – И ты хочешь, чтобы я ей помог.
– Да.
– Почему я должен это делать? Она… анархистка?
Далмау не пошевелился, не сказал ни слова.
– Анархистка, да, – заключил дон Мануэль. – Анархистка, которая призывает к забастовке и дерется с солдатами, исполняющими свой долг. Революционерка, стремящаяся подорвать…
– Она – моя сестра, – перебил его Далмау.
Дон Мануэль прищелкнул языком, уставился на одну из картин, какие во множестве висели на стенах мастерской, и стал приглаживать бакенбарды и усы.
– Я не должен вмешиваться, – заявил он наконец, вставая и направляясь к двери. – Мне жаль, сынок. Поеду домой, – продолжал он. – Меня раздражает то, что творится вокруг. Невозможно работать в такой обстановке.
Далмау двинулся ему наперерез. Учитель заметил это и остановился сам.
– Умоляю вас, дон Мануэль. Она в тюрьме «Амалия». Все знают, каково там приходится заключенным. Ее изнасиловали! – Голос Далмау задрожал. Учитель отвел взгляд. – Не верю, чтобы девушка восемнадцати лет, будь она даже анархисткой, заслуживала такой участи. Если она не выйдет из этого логова бандитов, ее убьют. Ей всего восемнадцать лет, – подчеркнул он. – Дон Мануэль, не судите о ней исходя из ее ошибок.
– Ошибок? – тотчас же подхватил учитель. – То есть ты полагаешь, что твоя сестра заблуждалась, призывая к забастовке, нападая на солдата?
– Да… – соврал Далмау.
– И что ты сделал, чтобы помешать ей? – Далмау заколебался. Учитель воспользовался этой нерешимостью. – Если бы ты принял меры, этого бы не случилось.
– Дон Мануэль, – перебил его Далмау. – Я признаю свою вину. Правда, я целиком погружен в работу, вы это знаете, как никто другой. – Он взглянул учителю в лицо, и тот выдержал взгляд. – В самом деле, после смерти отца я не уделял должного внимания младшей сестре. Что верно, то верно. Но ведь ее изнасиловали, ее бьют, измываются над ней. Разве она недостаточно наказана?
– Не знаю, сынок, не знаю. Меру наказания определяет Всевышний. Не знаю. – Он сделал шаг к двери. – Идем со мной. Пообедаешь у меня. Будь ты одет поприличнее… – снова взялся он за свои сетования. – Теперь она еще и в заплатах, твоя неубиваемая блуза! – добавил он, указывая на то место, из которого в вестибюле тюрьмы вырвали длинный клок и которое мать зашила.
В тот день явился и преподобный Жазинт, монах-пиарист, который преподавал в Благочестивой школе Святого Антония, коллеже, расположенном на той же улице, что и тюрьма Ронда-де-Сан-Пау, только чуть выше, почти у самого рынка, а значит, поблизости от «Ка Бертран», столовой, где работала Эмма. Был он лет тридцати, культурный и вежливый, крайне рассудительный и донельзя осторожный. Далмау не знал, что его связывает с доном Мануэлем, но часто встречал его в том доме. Они с Жазинтом не раз разговаривали об искусстве, о живописи, о рисунке… Монах, заключил Далмау, всегда выбирал темы, близкие собеседнику, никогда не пытался привлечь его к Церкви или начать проповедовать христианство. Похоже, уважал его атеистические взгляды, с чем не соглашались Эмма и его сестра, когда Далмау заводил речь о преподобном. «Такие хуже всех, – заявляла Монсеррат. – Прикидываются, будто им без разницы, а сами мало-помалу тебя завлекают. Осторожнее с ним», – предостерегала она, будто Далмау искушал сам дьявол.
Так или иначе, этим утром Далмау не успел даже поздороваться с преподобным. Едва они столкнулись с Жазинтом в гостиной, как дон Мануэль схватил его за руку и потащил в кабинет, что-то нашептывая на ухо. А Далмау остался стоять в зале, полном мебели, ковров и гобеленов, статуэток и картин, с огромной хрустальной люстрой на потолке, и донья Селия с ее двумя дочерьми разглядывали его. Даже малыш, почувствовав напряженное молчание, отложил игрушку, которой забавлялся, и обратил взгляд на Далмау. Урсула встретила его той же, что и всегда, будоражащей полуулыбкой, которая стерлась с ее лица, как только мать повернулась к ней и ее сестре, чопорно ответив на приветствие Далмау.
Служанка, открывшая дверь, исчезла; женщины не обращали на него внимания: мать погрузилась в книгу, сестры занялись рукоделием, хотя Урсула украдкой бросила на него еще один взгляд. Дон Мануэль и преподобный Жазинт затворились в кабинете. Далмау спросил себя, не пройти ли ему на кухню. Учитель не дал указаний, но это было в порядке вещей: с такими манерами и таким костюмом ему не место среди богачей, улыбнулся про себя Далмау. Он вдруг осознал, что ни разу не сидел на одном из диванов, что стояли перед огромными окнами, выходящими на Пасео-де-Грасия, даже не имел случая подойти поближе и посмотреть, как гуляет чистая публика; полюбоваться зрелищем пышного города из эркера, который выступал вперед и нависал над проспектом; юноша бывал только на кухне или в мастерской.
Донья Селия подняла взгляд от книги и оглядела его с возмущением, сквозящим в каждой черте, будто бы Далмау нарушал покой и уединение ее и детей, потом зазвонила в хрустальный колокольчик с такой силой, что чуть не разбила вещицу.
– Отведи его на кухню, – велела поспешно явившейся служанке.
Далмау попрощался легким кивком и последовал за девушкой.
– Привет, Анна, – поздоровался он с кухаркой, которая хлопотала вокруг нескольких железных плит.
Та повернула голову, обвела глазами кухню. Никого: ни сеньоры, ни ее дочерей, ни служанки, которая могла бы насплетничать донье Селии о ее симпатии к юнцу, который не желает хорошо одеваться, чтобы не садиться за стол с господами. Она разулыбалась. У нее не хватало зубов, и все же улыбка прекрасно смотрелась на ее лице, полном, румяном от жара и пара, исходящих от кастрюль. Она любила кормить тех, кто приходил к ней на кухню.
– Садись! – велела повариха. – На первое фасоль с картофелем и цветной капустой; на второе курица с тушеными овощами. Но все это нужно еще приготовить, сегодня вы слишком рано.
– Хорошо звучит, – кивнул Далмау, хотя несчастье с сестрой и лишило его аппетита.
Он присел к кухонному столу из некрашеного дерева, вынул уголек и альбом для эскизов, которые всегда носил в одном из карманов блузы, и принялся рисовать.
– А на сладкое – флан, – добавила Анна, налила ему стакан вина, красного, густого, которое она использовала для готовки, а потом вернулась к плите.
Несколько минут оба молчали, Далмау рисовал, а кухарка поглядывала, как на медленном огне тушатся перцы и баклажаны, идущие гарниром к куре, и одновременно на разделочной доске рубила эту самую курицу на куски сильными, точными ударами кухонного топорика.
– Что ты делаешь? – спросил Далмау, услышав шкворчание, но не поднимая глаз.
– Курицу обжариваю, – ответила кухарка. – А ты?
«Стараюсь не потерять терпения», – подумал Далмау, который пачкал один за другим листы альбома, ожидая, какое решение примет дон Мануэль по поводу его сестры.
– Рисую, – ответил он на вопрос Анны.
– Рисуешь что? – допытывалась та, стоя к нему спиной.
– Курицу, баклажаны, перцы…
Кухарка оторвалась от блюд, повернулась и мотнула головой: покажи, мол, рисунки. Далмау показал четыре линии, какие провел на листе.
– Вечно ты дуришь мне голову, – посетовала она.
– Так не давайте дурить себе голову, Анна. Не давайте дурить себе голову.
Оба развернулись к двери: там стояла Урсула, старшая дочь учителя; она и произнесла эти слова.
– Простите, сеньорита. – Анна поспешно вернулась к плите и к куре, которая продолжала жариться.
– Что за рисунок вы тут смотрели? – спросила девушка, направляясь к Далмау.
Вместо Анны ответил Далмау.
– Ничего особенного, – сказал он, порвал листок на клочки, скомкал и спрятал в кармане.
Урсула невозмутимо следила за его действиями.
– Далмау, – сказала она с издевкой, – идем со мной. Отец хочет видеть тебя.
Он сорвался с места, бросился следом. Сестра, изнасилованная в тюрьме, отказ учителя… все это снова нахлынуло на него.
Урсула закрыла дверь, как только он, погруженный в мысли о Монсеррат, следом за ней вошел в комнату. Лишь через несколько секунд его глаза привыкли к скудному свету, проникавшему со двора, куда выходило окошко, и юноша понял, что это кладовка, куда складывают горшки, швабры, ведра и прочие предметы, предназначенные для уборки.
– Что мы тут делаем? – спросил он. – Ведь ты сказала, что твой отец хочет видеть меня?
– Захочет, если я не помешаю, – отвечала Урсула. Далмау вытянул шею и потряс головой в знак крайнего изумления. – Да, – усмирила его Урсула, – я подслушала, о чем говорил отец с преподобным Жазинтом… Знаю, что твоя сестра в тюрьме, – выпалила она, видя, что Далмау что-то хочет сказать.
– И что? – Теперь Далмау с нетерпением ждал, что она скажет дальше.
– Отец всегда потакает моим капризам, сам знаешь. Он мог бы походатайствовать за твою сестру; кажется, ее зовут Монсеррат? Моя ровесница. Ужасно, что ее изнасиловали. Но главное, подумай вот о чем: если я настрою маму так, что она воспротивится, отец и пальцем не пошевелит.
– И чего ты попросишь взамен?
– Немногого, – лукаво проговорила девушка, подошла к Далмау и прижалась губами к его губам. – Совсем немногого, – повторила, отстраняясь, чтобы увидеть его реакцию.
– Не думаю, что таким образом… – пытался возразить Далмау, стараясь обойти ее и выбраться из кладовки.
– Богом клянусь, если ты не сделаешь, как я скажу, твоя сестра сгниет в тюрьме!
Далмау увидел в Урсуле те же жесткие, угрожающие черты, что у доньи Селии. Она поклялась Богом! Это в устах дочери дона Мануэля, который за божбу и богохульство наказывал рабочих вплоть до увольнения, напугало его даже больше, чем холодный взгляд, с которым девушка ждала, на что он решится.
– Это нехорошо, – пытался убедить ее Далмау. – Ваш Бог… – хотел он продолжать, но она, уверенная в том, что парень уступит, взяла его руку и положила себе на грудь поверх платья. Вздохнула. – Иисус Христос… – пытался вразумить ее Далмау. Урсула поцеловала его, на этот раз крепко, со страстью, но даже не пытаясь просунуть язык. – Иисус Христос учил… – продолжал Далмау, воспользовавшись тем, что она оторвалась от его губ, чтобы набрать в грудь воздуху. Что мог он сказать об Иисусе Христе, почем ему знать, чему он учил! – Это нехорошо, – вновь проговорил он.
Урсула взяла руку Далмау и заставила его сжимать и сминать ей грудь, а другую сунула себе между ног, поверх платья, нижних юбок и прочих преград, стоящих на страже ее добродетели. Девушка вздохнула. Потом сняла свою руку с руки Далмау, которой давила на свой лобок, и положила на его возбужденный член. Сначала прощупала через штаны, а потом, задыхаясь, чуть ли не в истерике, сунула руку внутрь, схватила пенис как церковную свечу и стиснула. Задрожала всем телом. Далмау ждал следующего шага, но его не последовало. Урсула прикусила нижнюю губу, снова поцеловала его, по-прежнему не раскрывая рта, крепко вцепившись в его член, а его заставляя тискать свою грудь через платье и время от времени надавливать на лобок; в какой-то момент он ощутил там, внизу, сладострастную дрожь, которую девушка и не пыталась скрыть.
Так прошло несколько минут, которые Далмау показались вечностью: она вздыхала и целовала его, жесткая, как истукан; а он жадно ловил малейшие звуки, какие слышались в доме. Наверное, Урсула могла бы добиться, чтобы ее отец помог, но, если их здесь застукают, дон Мануэль с супругой его не пощадят, это уж точно.
Беспокойство по этому поводу, скованность Урсулы, да и боль, которую причиняла ее рука, сжимавшая пенис, привели к тому, что возбуждение начало спадать. Урсула надавила, потом отпустила, еще и еще раз, будто пыталась оживить его этими почти яростными прикосновениями.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Замок трех драконов(Castell dels Tres Dragons)– сегодня в нем расположен Зоологический музей Каталонии. – Здесь и далее примеч. перев.
2
Дом Амалье (Casa Amatller)называется по имени владельца, кондитера Антонио Амалье, который и заказал реконструкцию дома архитектору Пуч-и-Кадафалку.
3
Школа живописи, архитектуры и прикладных искусств в Барселоне.
4
Беспризорники(каталан.).
5
Запеченная треска, каталонское блюдо.
6
Пиаристы– католический монашеский орден, занимающийся обучением и воспитанием детей и молодежи; другое название – пиары. Название произошло от Scholaе piaе(«Благочестивые школы»).
7
Ильдефонс Серда-и-Суньер(1815–1876) – испанский градостроитель, автор проекта расширения Барселоны.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Всего 10 форматов