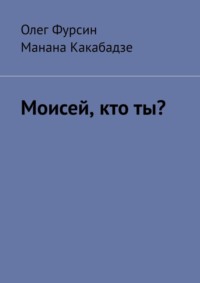
Моисей, кто ты?
– Ты огорчаешь меня, Мозе. Женщина и я ожидали чего-то в этом роде. Я воспитал в ней переносимость к ядам. И ты знаешь, как, каким способом. Справедливости ради, надо сказать, что она находилась между жизнью и смертью несколько дней. А ведь как только её оставили, уверенные в том, что она отходит, где-то за городом, снова в квартале рабов, она тут же извергла из себя то, что пила. Доползла до ближайшего дома, и сумела умолить о том, чтоб известили меня. Её вид и речь пробудили в людях доверие. И сострадание. Впрочем, она сумела заплатить за себя. Ты знаешь, Мозе, она всё время проваливалась в сон, была крайне слаба, даже говорить не могла. Нечто подобное творилось и с твоей матерью…
– Ты ничего не сделал, чтоб помочь? Ведь была возможность рассказать отцу…
– Кое-что я всё-таки сделал, – отвечал с упрёком жрец. – Но она была матерью, только что родившей на свет двух малышей, а не крепкой женщиной лет тридцати, из тех, что не смутишь ничем. Она была слаба и истощена крайне беременностью; и моя помощь подоспела поздно. Что же касается владыки, то что, что я должен был сказать ему?
Жрец пришёл в крайнее возбуждение. Совесть его не дремала; глядя на него сейчас, Мозе осознал это с ясностью.
– С самого начала я знал, что будут мальчики-близнецы. С самого начала знал, что вокруг женщины и её детей затевается нечто ужасное. С самонадеянностью, достойной осуждения, но объяснимой молодостью моей, да и быстрым успехом жизненным, я решил, что справлюсь сам. Но я не справился. Бакетатон сказать ничего не могла. Один из близнецов был похищен. Второй словно отказывался жить: мальчик был крайне слаб, едва, чуть ли не с отвращением, пил молоко кормилицы, болел. И если не было в этом моей прямой вины, то ответственность я нес, и какую! Я промолчал, Мозе. Я взялся лечить мальчика, и выхаживать мать, и я делал это хорошо. За мной была вся животворная сила Атона, все его люди и возможности этих людей. Мои поднадзорные выжили. Ты знаешь, Бакетатон даже вспомнила нечто. Несколько дней после своего пробуждения она спрашивала: «А где второй? Мой второй сын, где он?»…Потом недоумение людское и странные взгляды убедили её в том, что всё было лишь сном, лишь следствием родильной горячки. И всё же она вглядывалась временами в лица людей, и в глазах её был вопрос: «А где?»…
И снова легло между двумя молчание, тягостное и неумолимое.
Нарушил его не Мозе. Боль его истерзала. Он не мог бы говорить, если б и захотел.
– И потом, я надеялся оправдаться. Я знал, что могу найти второго близнеца. Я и хотел найти его. И мог. Тот, кто сидел в потайной комнате, привел бы меня к нему. Чтоб оправдаться, мне нужно было нечто большее, чем слова. Ты, Мозе, мог спасти меня перед лицом твоего отца, приведи я тебя под его кров обратно. Правда, я не знал, как смогу сказать… объяснить ему то, что случилось. Мне не было оправдания, по крайней мере, я не находил его. Но я откладывал эти мысли на потом. Я тешил себя надеждой найти выход, но после, потом, когда найду тебя. Ты был мне светом, во тьме, меня окружавшей…
Мери-Ра рассказал, что когда брат-близнец Мозе выжил, а несчастная юная мать надлежащим образом восстановила свои силы, он смог заняться поиском похищенного ребенка.
Следы привели в место совсем неожиданное.
Квартал рабов. Амрам и Иеховеда, рабы, пара из хаабиру. Тихие люди, земледельцы, у которых есть сын, Аарон, и мать кормит его грудью, вот уж девять месяцев. Ей дали денег, она приняла ребёнка, не задавая лишних вопросов, не озаботившись ими. Где один, там и два дитяти. Молоко в груди собирается, не требуя особых хлопот, а заботы о детях… она свела их к такому малому объёму, что говорить не о чем. Помощь мужу на земле отнимала слишком много времени и сил. Наличие ребенка освободить женщину от рабского труда не может.
– Она была мне хорошей матерью, – возразил Мозе. – Простой, да, никак не скажешь, что была учёной. Но была добра, говорила со мной, и ласкала, наравне с Аароном, пыталась чему-то учить. И очень мной гордилась мной, когда стало чем гордиться. У неё всегда было чисто, и нас она держала в чистоте. И она говорила мне о единственности бога, она первая.
– Я знаю, отвечал ему Мери-Ра. – Но всё это было потом. А тогда, когда тебя отдали в их руки, она была замученной. Жили в нищете и были обижаемы; ей было не до вас. Когда так живут, дети только обуза. Её не обвинишь; трудно быть человеком, когда голоден, и вечно устал. К тебе, пожалуй, она относилась даже лучше, чем к своему ребёнку: за тебя платили…
Мери-Ра счёл нужным объяснить, чем руководствовался жреческий клан Амона.
В среде рабов, тем более земледельцев, нет тех, кто мог бы видеть лицо будущего наследника власти в Египте. Никому не интересен, с другой стороны, чумазый мальчишка, ребёнок презираемых. Сходство ребятишек, чья судьба так различна, не будет замечена никем. Наверно, это было бы не навсегда, стоило ли похищать ребёнка, чтоб оставить его на задворках судьбы, у Амрама и Иеховеды на задворках их убогого двора. Но вот сейчас, в сию минуту, пока ребёнок нуждался в кормилице, безгласной и не слишком умной, и пока возникнет уверенность в безнаказанности, сейчас это было решением. А главное: в Ахетатон хаабиру прибыли только что, никто их не знал, по сути, и детей их тоже. Сколько их было у Иеховеды? Два? Ну два так два, кому это интересно, сколько раз рожала презренная рабыня…
– Вот как, – сказал Мозе, не Джехутимесу, с горечью… Нет, конечно, учёной она не была. Но в ней была мудрость, жрец, вековая доброта и мудрость, да… женщины, которая знает труд…
Мери-Ра не стал спорить. Годы, состарившие жреца, добавили и ему мудрости тоже. И он смолчал по этому поводу, хотя мог бы что-то сказать.
– Знаешь, я гордился тобой тоже. Не меньше, чем Иеховеда.
Мозе взглянул на него недоверчиво.
– Мало того, что ты был в сердце моём надеждой. На то, что оправдаю себя сам, что принесу ещё наследника Кемет и славу Атону-избавителю. Но ты поражал меня своей волей к жизни. Твой брат-близнец отказывался брать грудь; его нёбо, не сросшееся, как и у тебя, доставляло ему неудобства, он поперхивался, плакал, и я был вынужден придумывать способы кормления слабеющего ребёнка. Он требовал непрестанной заботы и ухода. Ты же молчаливо лежал в убогом домишке, не плача и не требуя ничего, мокрый и грязный. Иеховеда, вернувшись с полей, прикладывала тебя к груди; ты хватал её так, словно понимал, что это один-единственный способ выжить. Ты был улыбчив, как мне говорили, Тут-Анах-Йати плаксив! Я видел в этом волю Атона. Я видел в этом своё спасение. Ты мог ждать меня, и ты меня дождался…
Мери-Ра рассказал дальше, как готовился к похищению маленького Джехутимесу. Нужны были люди, чьи лица не примелькались в Ахет-Атоне, которых никто не знал. Жрец догадывался, что за домом следят. Йеховеда оставляла детей одних в незапертом доме. Кому они были нужны, её ребятишки?
И, однако, были нужны! Несколько раз видели с окружавших крыш, как проникали в дом бритоголовые Амона. Если бы за ребёнка пришлось сражаться и погибать, Мери-Ра предпочёл бы, чтоб не были опознаны люди. За ними послали в отдалённые храмы Хат-Хор…
Ранним утром, ещё затемно, через несколько мгновений после того, как ушли Иеховеда и Амрам, скользнули в дом двое, и, найдя нужного им ребёнка по расщелине во рту (младенец тут же обхватил палец деснами, чтоб пососать, и это рассмешило похитителя), вынесли его в корзине. Быстро прошли по кварталу, который просыпался к работе, ненавидимой, но непременной для его жителей. За пределами рабского жилья присоединилась к ним ещё группа защитников, и двинулись они к загородному дворцу владыки. Почти у самого дворца вышли им навстречу бритоголовые. Завязалась битва.
Судьба Мозе не отличалась простотой с самого начала. И этот момент не стал исключением. В тишине утра, вблизи дворца, где жизнь ещё не начиналась, где все ещё спали, быстрая, но жестокая схватка завершилась смертью не менее двадцати человек с обеих сторон.
Последний из защитников маленького Мозе, не принимавший участия в битве, добежал с корзиной в руке до дворца, проник сквозь ограду в известном ему месте. Тенью скользил за ним преследователь, раненый и слабеющий, но неукротимый. Кровь сочилась у него откуда-то справа, из области подреберья. Зажимая рану, он бежал за спасителем Мозе, и настиг его у того самого места, где воды Нила отводились в канал, огибающий затем дворец, дающий исток многочисленным рукавам, идущим через сад. Он успел пронзить своим мечом того, кто нес корзину с ребёнком, но упал и сам, истекая кровью.
Не было в тот день и час владыки во дворце, потому и не очень добросовестно охраняли его. Проспала битву за воротами и в саду охрана.
Дочь фараона, Мери-та-Атон, жила во дворце в это время. Девочка подросла, стала девушкой; многие отмечали её красоту, унаследованную от матери, говорили и об уме, о добром её сердце. Причиной её жизни в отдалении от матери и сестёр стало именно взросление. Владыка Кемет, Верхней и Нижней ее земель, не имел главной жены. Нефертити перестала ею быть, Кийя или Бакетатон ею не стали.
Но продолжаться так долго не могло. Мери-та-Атон, дочь фараона, была подходящей супругой повелителю, и должна была ею стать. Таков закон Кемет. И, кажется, повелитель начал склоняться к тому, чтоб следовать ему. Была ли Мери-та-Атон, юная девушка, похожа на Нефертити, какою он помнил любимую жену? Увы, да.
Годы не могли вовсе убить красоту Нефертити, но лишили женщину прелести юности. Не было уж тонких гибких рук, и по утрам с досадой отмечала она мешки под глазами, и кожа запястий выдавала ненавистные кольца-морщины. Улыбка её уж не была такой открытой; да она и боялась теперь улыбаться, боялась того, что побегут от открытой улыбки морщинки-лучики от глаз, ото рта…
Не то Мери-Та-Атон. Кровь приливала к губам и щекам девушки, и кожа её была нежной, и дыхание ароматным. И отец должен был стать её супругом и повелителем, таков закон Египта!
Мери-Ра был при Мери-та-Атон, и он учил её гимнам, которые станет она возносить Атону вместе со своим супругом-повелителем; и слушал её пение под звуки систра, и руководил ею каждый день. До дня, когда владыка, быть может, возьмёт её в жёны, времени было ещё довольно. Оно исчислялось и годом, и двумя, и тремя. А пока жрец воспитывал её – так, как следовало воспитывать будущую подругу владыки.
Но не мог быть с ней рядом всегда и повсюду.
Не мог он присутствовать при утреннем купании дочери фараона. И не присутствовал. Женщины были с ней, те, что разминали ей плечи, обтирали её после купания, меняли одежду.
Природная скромность девушки повелевала ей купаться вдали от чужих глаз. Она любила заросли камыша на канале.
Утром того дня, когда судьба Мозе сделала свой сумасшедший скачок, Мери-та-Атон купалась в любимой заводи.
К её ногам, к её чудным изящным стопам, принесла вода корзину. Хорошо просмоленную, добротную корзину.
Рыбы не было в ней, не было даров и фруктов. Но крепенький малыш нескольких месяцев отроду лежал в ней, посасывая свой палец.
Она остановила корзину, не веря глазам, стала осматривать ребёнка. Он был похож, очень похож на её маленького брата, нынешнего наследника престола. Только крепыш, ручки с ножками заполнены, круглые, и он такой спокойный…
И тут свершилось чудо: молчун Мозе, тихий, спокойный ребёнок, вечно улыбающийся, невозмутимый, вдруг выбросил палец изо рта, и заорал. Он не просто плакал, он заливался криком, от которого звенело в ушах..
Дочь фараона вняла его призыву и, взяв малыша на руки, нежно прижала к груди…
Мозе вернулся домой!
Глава 6. Азазель
Унылая, безжизненная пустыня. Бурые, желтые и черные горы, не горы – скалы, возвышающиеся над кучами песка и грудами сваленных в беспорядке мелких камней. С вершин некоторых скал стекают целые реки белого песка. Вечерами морщины гор окрашиваются заходящим солнцем в желтый, потом оранжево-розовый цвет. Когда свет уходит, горы становятся уныло-серыми. Ещё позже они сливаются с небом, всё вместе проваливается во мрак. А под конец на чёрном небе зажигаются яркие звёзды. Ни души, ни облачка, ничего движущегося на большом пространстве.
Кажется, здесь нет, и не может быть никого, кроме Него, Бога. Быть может, это единственное место на земле, где мог бы Он бродить в одиночестве, не опасаясь быть замеченным. Камни, бесконечный песок и огромные причудливые горы, среди которых скрыты долины, провалы. Сад Господень, где ничему живому нет места.
И, однако, вот где-то здесь, недалеко, стоит стан людской, затерявшийся в песках. Спят люди, охраняемые бдительными стражами. Верблюды улеглись на песках, волы. Где-то слышен тимпан и приглушенное пение, где-то храп, а ещё где-то проклятие и неласковое слово.
И, однако, всё чаще там, впереди, куда идёт народ хаабиру [1], на фоне чёрного неба возникают неясные вспышки света, очень яркие. И странно гудит земля, и слышится неясный шум.
В пустыне всё-таки многое идёт не так, как обычно.
Жёлтое око пустыни уже который день всматривается в странную пару людей, пересекающих её обычно безлюдное, ныне более заселенное пространство. Следят за ней горы из песчаника и скалы из камней, смешанные в пустыню.
Не скрываясь, идёт и едет народ, и очевидно, что единственное желание, охватившее всех без исключения людей, хаабиру, покидающих страну своего рабства, покинуть и пустыню как можно скорей. И это единственное желание самой пустыни: пусть уходят.
А вот эти двое хотят другого: быть вечно на краю людского стана, не сливаясь с ним. Пусть бы шли они, люди, и эти двое вослед им, вечно. Ненависть не остынет, и месть будет сладкой.
Один из этой пары, он взрослый, мужчина. Мальчик, которого он таскает на спине, тот лет пяти, не больше. И веса у него нет почти, и сил.
Отец почему-то не видит, как медленно угасает жизнь ребенка, которого таскает он с собой. Не видит бледности мальчика, не видит истощения. Впрочем, ребёнок закутан днём и ночью, ночью от холода, днём от солнца. Может, потому не различает отец грозных признаков стоящей на пороге смерти?
Он и сам похож на высохшую мумию. Он и сам почти не ест, не пьёт. Но ему это не важно. Он идёт по следу стана, он рыщет, как хищник, вдыхая жар пустыни…
Есть ещё двое гостей, которых узнает пустыня в лицо. Ночь за ночью лезут они на скалы, обследуя каждую впадину, каждую дыру в каменистой части, потом идут по песчанику, месят ногами песок и катают камни. Странно видеть эти поиски: зачем они? Что же, кроме песка и камня, можно найти в этих пределах?
С десяток воинов охраняют этих двоих, но воины меняются, а эти двое с факелами возглавляют маленький отряд каждую ночь.
Обычно затихает стан, успокаиваются люди, замолкают животные. К шатру, где обретается старший из двоих, подходит подчинённый, и зовёт тихонько:
– Мозе, я тут. Все готовы, идём.
Тот, которого зовут Мозе, выходит из шатра, вздыхая и потягиваясь.
– Сегодня мы найдём его, Аарон, – говорит он. – Сегодня обязательно найдём. Стоят ли воины вокруг стана? Настороже ли они? Ты предупредил ли их, что сон может стать причиной смерти и их самих, и их близких?
– Я предупредил. Только они и сами знают, Мозе, – вздыхает Аарон в ответ. – Они и сами хотят жить. Вот говорю я тебе: не человек это. Вот ты, ты же учён, и понимаешь в этом больше моего. Я-то простой воин, Мозе, а ты учён. Скажи, что знаешь ты о демонах пустыни? Какой выкуп надо отдать мне за народ мой, чтоб не погибали люди? Что пожертвовать мне, чтобы пустыня оставила нас своей злобой!
Странно слышать разговоры эти пустыне. Она не злобна вовсе, она не добра. Она просто живёт той жизнью, что судил ей Бог. Зачем ей, пустыне, демоны; довольно жары и жажды, довольно голода, нет иных демонов для всего живого в пустыне. Демоны придуманы людьми, а пустыня просто живёт своей жизнью. Пустыня рассмеялась бы Аарону в лицо, когда б могла. Но это не её удел. Она молчит.
Аарон, споткнувшись об острый камень, поранил себе ногу, и сквернословит, и морщится; ни в чём не повинный камень, который он пнул со злости, с силой бьёт по щиколотке другого воина. Так бьёт, что бедняга валится с ног и стонет…
Пустыня смеялась бы, когда бы умела, и вторила бы ей ночь, окутавшая мглой округу, смеялись бы звёзды, что вышли на небосвод для общего блага: посветить немножко…
Но они молчаливы и безгласны: и крик, и жалоба, и стон, и радость, – то не их удел. И демоны, и страсти, всё это для человека; для пустыни, звёзд и неба – молчание.
Сегодня ночью, и пустыня знает это, они и впрямь могут найти нечто иное, не песок и не камни из тех, что щедро рассыпала она на пути.
Тот, который отец ребёнка, сегодня вдруг почувствовал свою усталость. Много дней подряд проливал он кровь, и поначалу ему давалась радость мести. Ныне он пресытился. Не то чтобы раскаялся, но и убивать больше не хотел. Только не знал, а что же делать, если не убивать. Чем же боль, ту, что в груди, заглушить. Он не видел выхода. Вот если идти по пятам, преследовать, убивать, это понятно. Это какое-то занятие, а без него?
Когда человек устал, он допускает ошибки. Ошибкой было оставлять своё дитя в ближней к стану пещере. Но он оставил. И если тот, которого зовут Мозе, сегодня будет таким же, как всегда, упорным и дотошным, то он найдет.
Ночь. Тишина пустыни сегодня условна. Разве может затихнуть огромный стан совсем? Тут и там сполохи факелов. Костры горят. Отголоски короткого смеха, тут же заглушённого окриками тех, кто хотел бы поспать. Да и не находит причины для смеха народ, какой тут смех, когда смерть бродит где-то рядом…
Мозе, Аарон, с десяток воинов бредут, заглядывая в каждую расщелину между скалами. Где-то здесь, между вот той расщелиной и этой стеной, есть дыра в скале. В ней спит ребёнок. Он беззащитен и слаб. Если бы можно, пустыня прикрыла бы его, укутала так, чтоб не разглядеть этим, рыщущим. И без того ночь сегодня темна до невозможности. А скалы поднимаются в самое небо, чтобы прикрыть луну со звездами.
Но люди так настойчиво ищут, словно знают, что суждено найти.
– Тише! Замерли все! Не дышать! – это приказ Аарона.
Застыли воины, замер и рванувшийся к пещере Мозе.
Ничего не слышно. Всё относительно тихо и спокойно.
– Я что-то слышал, – отвечает Аарон брату, смотрящему на него вопросительно. – Ты знаешь, каков мой слух, Мозе. Я лучше собаки! Помолчите все.
Все и без того молчат, превратившись в изваяния.
Мозе знает, что Аарон необычный, поразительный воин. И то, как остёр его слух, он тоже знает. А в это мгновение в очередной раз успевает поразиться тому, каков Аарон как начальник. Вот даже он, Мозе, подчинён Аарону сейчас. Что уж говорить о воинах, они, кажется, умрут по первому слову брата. Нет, не зря он, Мозе, выбрал дорогу Аарону. Говорят о молодости Мозе, об отсутствии опыта. Но в людях Мозе не ошибается, а разве это не главное в его положении?
Явственно слышен шорох. Потом сонное бормотание: «Отец, отец!»…
На языке Кемет. Хаабиру говорят не так.
Улыбка озаряет лицо Мозе. И улыбкой отвечает ему Аарон. Счастливой улыбкой облегчения.
Дан знак одному из воинов. Тенью проскальзывает тот в пещеру. Несколькими мгновениями позже появляется в проёме, и показывает: можно, внутри безопасно.
Мозе с Аароном проходят внутрь. Лишь один факел горит, он в руках Аарона.
Мальчик спит на холодном камне, съёжившись от холода. Что-то бормочет, временами негромко вскрикивает. Но и свет факела не будит его, утомленного, по-видимому, донельзя. Он только переворачивается во сне, уклоняясь от ненужного света.
Аарон вновь смотрит вопросительно на брата.
Мозе в задумчивости. Придя к решению, присаживается невдалеке от мальчика. И жестом зовёт Аарона присоединиться.
Аарон понятлив. Также беззвучно присаживается на камень.
Воин, что предводительствовал отряду, ловит движение руки Аарона. Он понял, кивает головой. Очевидно, что он испытывает некие сомнения, это написано на его лице; но приказ есть приказ, и он вынужден подчиниться. Выйдя из пещеры, он уводит с собой воинов.
Гаснет факел в пещере. Аарон устраивается рядом с мальчиком, в руке его нож.
Всё. Томительное и трудное ожидание. Это последняя ночь из тех, которые ознаменовались пролитием крови и смертью. Убийцу ждут. Не прийти сюда он не может…
Томительно тянется время. Мозе, прислонившийся к стене, мерзнет. Бессмысленна попытка даже задремать, не то, что заснуть. А вот Аарон, тот провалился в сон, он умеет. Все равно при малейшем постороннем шорохе встрепенётся. И быстрее бодрствующего Мозе успеет выскочить из сна, рвануться, сдавить чьё-то горло руками или метнуть нож.
Это же воин Аарон. Это брат самого Мозе! Так говорят о нём люди.
Трудно ждать убийцу, зная, что он творит сейчас там, в стане. Пусть это последняя ночь смертей, но сердце не хочет мириться и с последней жертвой. Кто это может быть, кто падёт сегодня? Будто бы Мозе не знает их, воинов Аарона, или мало знаком со жрецами Атона, или не жаль ему своих хаабиру, которых вытащил он из западни. Все они его, Мозе, люди. Верно, преувеличением было бы сказать, что всех и каждого он любит. Зато он любит спасённые им жизни вообще, да и ту свободу, которую вырвал для них. Разве сам он заплатил малую цену? И неизвестно, сколько ещё придется платить…
Возможно, Мозе и проваливался в сон временами. Но просыпался быстро, с чувством тревоги, сердцебиением. И снова томительно считал мгновения.
На рассвете, когда солнце ещё и не вышло из-за скал, только света прибавило в мире, но не явило лика своего… На рассвете вдруг быстро и бесшумно присел Аарон, и рука его, ножом вооруженная, зависла над спящим мальчиком, в той области, где бьётся сердце. Насторожился, замер потревоженный Мозе. Он ничего не слышал, но он верил Аарону. Что-то же разбудило брата.
– Не надо, раб, не трогай его, – услышали они голос убийцы. – Я достаточно хорош для тебя, возьми меня. Не трогай ребёнка.
Аарон молчал.
– Войди к нам, – ответил Мозе, но не Аарон. – И не бойся, мы не тронем его, когда и ты будешь спокоен, не принесёшь нам зла.
Убийца вошел, остановился посреди пещеры. Солнце там, за её пределами, только что выкатилось на небосвод, а потому пронизало светом все дыры, щели, отверстия в скале. Все, кому выпала встреча в этот час, в этом странном месте, в сердце пустыни, получили возможность рассмотреть друг друга. Даже ребёнок, чью попытку вскочить с каменного ложа мгновенно пресёк Аарон. Теперь он держал мальчика, насмерть перепуганного, левой рукой у груди, правая же рука его прижимала нож к самому горлу ребёнка.
Возможно, отец слышал биение сердца своего дитяти, Мозе же точно слышал, мог бы поклясться… Пробуждение не из приятных, но, сколько уже народу проснулось в стане куда худшим образом? Под вой и причитания, под плач. Места жалости не было в сердце, вернее, не должно было быть, и Мозе изгнал усилием воли последние её остатки.
Он рассматривал египтянина долго.
Прямоугольной формы схенти [2] на бедрах, ткань передника была когда-то белой, ныне серая, кое-где и чёрная уже, и бахрома местами рваная свисает. Кожаный нагрудник. Значит, воин, раз нагрудник. Связка дешёвых бус, ускх, ожерельем на шее. Глаза не подведены, борода не выбрита, клочьями висит, во все стороны торчком. Голова не покрыта, но и не брита, как у жреца, опять же видно, что не стрижена давно. На ногах сандалии, а кожаные ремешки разной длины, рваные, короткий связан с длинным. Нож в руке.
Не ухожен, да просто грязен. Лицо напряжено, смотрит зло.
– Воин?
Вопрос прозвучал скорей утвердительно. И египтянин лишь кивнул головой в ответ.
– Скажешь, зачем? Не просто же так идёшь по пятам за нами? Не поверю, что из любви к Египту хочешь остановить рабов. Неужели нужны они так, что стране, что тебе; ныне не нужны и египтяне, по себе знаю.
Мозе взялся за собственную бороду, мял и теребил её нещадно, злость отступала как будто при этом. Отросла борода, и нет ни желания, ни возможности проститься с этиь украшением. Верно, и сам Мозе выглядит не лучше этого египтянина. Выяснять он бы не рискнул, пожалуй. Но сегодня всё другое, даже вся страна, разве это та Кемет, которую он знал и любил? Всё стало другим, Мозе не исключение.
Египтянин молчал.
– Мор кругом, и горы горят, и град каменный, какого не бывало. И там, откуда шли, да и по дороге так местами. Не ты – военачальники о нас забыли. Так зачем пил кровь моих людей, не из любви же к крови?
Египтянин молчал.
– Аарон, – позвал Мозе.
Аарон сделал движение, позволявшее судить о том, какую фигуру выпишет его нож в следующее мгновение.
– Нет!
Египтянин. Ребёнка он, по крайней мере, любит.
– Ваши шли по дороге. Я о них не вспоминал, они меня вспомнили. Мимо города прошли. А под городом домов много, от мора подальше и я жену увёз, с ребенком, да и тяжелая она была…
Он почти кричал.
– Мне всё рассказывать? Что из дома унесли, унесли. Что дом ломали и портили, тоже плохо, но не вся ещё беда.

