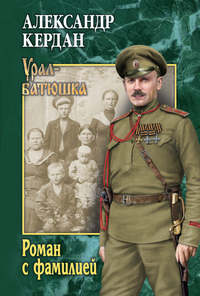
Роман с фамилией
– Юлия, ты ничего не понимаешь! Никакой он не учитель, а обыкновенный раб!
– Нет, учитель! Учитель! Это ты ничего не понимаешь, Друз! – тотчас обиженно надула пухлые губки Юлия.
Старший мальчик, похожий на маленького и строгого старичка, исподлобья наблюдал за их препирательствами, но в спор не вступал.
Ливия призвала детей к порядку:
– Друз, Юлия, перестаньте шуметь! Ведите себя достойно! Всегда помните, что вы – дети Цезаря!
Друз послушно умолк, подбежал к матери и уткнулся лицом в подол столы, а Юлия продолжала крепко держать меня за руку и упрямо твердить:
– Всё равно это наш учитель, а никакой не раб… Это наш учитель… Он – не раб! Я знаю!
Ливия неодобрительно взглянула на падчерицу, но произнесла ласково и даже с некоторой приторностью в голосе:
– Ты права, Юлия, дочь моя, это ваш новый учитель!
5
Так совершенно неожиданно я стал вхож в дом Октавиана и оказался в эпицентре важных политических событий.
Впрочем, в моей жизни почти ничего не изменилось. Большую часть времени я по-прежнему проводил в библиотеке Поллиона, занимаясь своим обычным делом – переписыванием рукописей, но три раза в неделю за мной приходил раб, и я отправлялся к моим юным ученикам.
Мы занимались грамматикой и языками, а позднее и красноречием, то есть риторикой. Помимо Тиберия, Друза и Юлии на занятиях часто присутствовали и дети Октавии, вернувшейся в Рим после развода с Марком Антонием: её сын и две дочери от первого брака – Марк Клавдий Марцелл, Клавдия-старшая и Клавдия-младшая, а также Юл Антоний – сын Марка Антония и Фульфии, воспитываемый Октавией. Самый старший из всех – Юл Антоний, довольно рослый подросток, учиться не любил и от занятий отлынивал при первой же возможности, но отличался атлетическим сложением, приятной внешностью, и этим вызывал восхищённые взгляды девочек и неприкрытую ревность Тиберия.
Судьба Тиберия не баловала. Родился он за несколько месяцев до битвы при Филиппах, где партия его отца потерпела поражение. Младенческие годы провёл в постоянных скитаниях по Италии, Сицилии и Ахайе со своими опальными родителями. В Неаполе их едва не схватили враги. В Спарте лес вокруг беглецов вдруг вспыхнул пожаром, и пламя так близко подобралось к путникам, что Ливии опалило волосы, а у двухлетнего Тиберия обгорели края одежды. Когда мальчику было четыре года, у него отняли мать: триумфатор Октавиан заставил Тиберия Старшего уступить ему жену… При этом самого Тиберия выслали вместе с отцом. Наверное, он очень скучал по матери, плакал и не спал ночами… С матерью он смог встретиться, только когда его отец Нерон умер. Октавиан принял Тиберия к себе в дом. Но каково это – жить в доме врага отца твоего, жить, детским умом и всем сердцем своим понимая, что ты живёшь у человека, повинного в драме твоей семьи, осознавая, что так или иначе в этой драме виновна и твоя собственная мать…
Неудивительно, что Тиберий оказался самым скрытным из моих учеников. Говорил он мало, а когда спрашивали, отвечал двусмысленно и путанно. Даже в тех случаях, когда нечего скрывать, его слова, будто туманом, обволакивали мысль чем-то неясным и неопределённым. В любых ситуациях он пытался ничем не выдать своих истинных чувств и очень злился, когда его старания оказывались замеченными посторонними. Тогда он становился просто нестерпимо колючим, дерзким, и требовалось приложить немалые усилия, чтобы вернуть ему доброе расположение духа.
Тиберий и внешне выглядел не особенно привлекательно: угловатый и даже несуразный мальчик с молочно-белой, пунцовеющей в минуты гнева кожей, жёсткими льняными волосами, квадратным волевым подбородком и светло-серыми глазами, которые смотрели на мир не по летам проницательно и недоверчиво.
Младший его брат Друз являл собой полную противоположность. Любимец Ливии и Октавиана (злые языки утверждали, что именно он и есть настоящий отец Друза), общительный и смешливый ребёнок, предпочитал игры и веселье учебным занятиям. Пухлый, но очень подвижный и ловкий, он часто побеждал старшего брата в беге и других соревнованиях, что ничуть не мешало их крепкой, по-настоящему братской дружбе. Если же вспыхивала ссора, Друз тотчас бежал жаловаться матери, но вскоре забывал обиды и снова становился добродушным весельчаком, игривым и непоседливым.
Пожалуй, только Юлия, падчерица Ливии, и могла поссорить братьев друг с другом по-настоящему. Надо заметить, что этой юной особе нравилось сталкивать окружающих лбами. Эта девочка с тёмно-зелёными, как море перед бурей, глазами и рыжими, искрящимися на солнце волосами обладала не только детской жизнерадостностью, но и повадками взрослой матроны. Возможно, эти качества она унаследовала от своей родной матери – Скрибонии, дальней родственницы Марка Антония, женщины, прославившейся редкостной красотой и скверным характером. Скрибония ещё до замужества с Октавианом успела дважды побывать замужем за отставными сенаторами и постоянными скандалами, необузданным темпераментом и выходками быстро отправила их к праотцам.
Глядя на милое личико Юлии, трудно было сказать, унаследовала ли она красоту Скрибонии, но характер у неё уже в этом юном возрасте проявлялся далеко не сахарный.
Она умело манипулировала мальчиками из своего окружения, одаривала вниманием то одного, то другого, подначивала их поочерёдно, а сама задорно смеялась, глядя на ссоры, причиной которых являлась.
Ко мне Юлия относилась на удивление ласково. На занятиях вела себя тихо, не дерзила, всё улавливала на лету. Особую любовь она проявляла к литературе и многие стихи греческих авторов знала наизусть, предпочитая творения Еврипида и Софокла.
Остальные дети тоже проявляли прилежание и вскоре стали делать заметные успехи. Особую усидчивость и старание проявлял нелюдимый и вечно погружённый в себя Тиберий. И если в занятиях красноречием вперёд вырывались другие ученики, то в выполнении письменных заданий, в переложении стихов на прозу никого равного ему не находилось. Тиберия отличало какое-то поразительное тщание в переписывании текстов и постоянное стремление к отличному результату. Склоняясь над листом папируса или над восковой табличкой, лицо его преображалось, взгляд утрачивал холодность и настороженность. А когда у него что-то получалось лучше, чем у остальных детей, он радовался, хотя и старался не показывать этого.
Давая уроки наследникам Октавиана, я незаметно привязался к ним и даже полюбил, забыв, что это дети моего врага. Возможно, именно так, любовью старшего к младшему, умудрённого к неопытному и только постигающему жизнь, любили меня когда-то мои наставники – рабы моего отца: пленный латинянин, старый иудей из Иерихона, грек из Афин и его одноглазый соплеменник с Крита… Тогда я не задумывался над их несвободой и личной трагедией каждого и любил своих учителей всей душой.
Признаюсь, теперь мне самому доставляло истинное удовольствие учить этих талантливых детей, нравилось исподволь наблюдать за ними, замечать, как они взрослеют. Не скрою, я испытывал гордость, видя, как в их сознании пресловутая тabula rasa – доска, на которой ничего не написано, заполняется содержанием, как постигают они неизведанное, преодолевая трудности в учении, с каким упорством складывают в предложения слова на чужом языке, как стараются победить друг друга в соревнованиях по риторике… Я пытался представить, какими они вырастут, как сложится их судьба. И в эти минуты забывал о своей доле раба, целиком зависящего от прихоти не только своего господина, но и любого из его малолетних отпрысков.
Однажды я поделился своими размышлениями с Агазоном.
Он выслушал меня с вниманием и вдруг заявил:
– Поздравляю тебя, юноша, ты становишься настоящим мужчиной…
– С чего ты так решил? – нахмурился я, предполагая в его словах некую скрытую насмешку.
Но Агазон был серьёзен.
– Полюбить детей врага – это признак силы, – проскрипел он. – А ещё это знак того, что ты стал на шаг ближе к истинной свободе…
Заметив моё недоумение, добавил:
– Только любовь к ближним делает людей по-настоящему свободными. Она – высшая благо! Помнишь, как сказал Аристотель: «Любить – значит желать другому того, что считаешь за благо, и желать притом не ради себя, но ради того, кого любишь, и стараться по возможности доставить ему это благо…»
– Как же я могу дать свободу другим, если сам не свободен? – усомнился я.
Агафон только загадочно покачал головой.
6
Моя жизнь в Риме несколько лет протекала вполне размеренно и, надо сказать, без особых перемен. Занятия с учениками чередовались с чтением древних манускриптов в библиотеке Поллиона и долгими разговорами со стариком Агазоном…
И так – изо дня в день, из месяца в месяц.
И только важные общественные события, подросшие ученики да моя седина свидетельствовали, как много воды утекло в Тибре.
…В начале августа 725 года от основания Рима в Италию из Египта вернулся победоносный Октавиан.
Его флот пришвартовался в Брундизии. Не торопясь, Октавиан двинулся в столицу, сопровождаемый на протяжении всего пути огромной свитой, ликованием сограждан, торжественными встречами, пирами и славословием.
Обгоняя его кортеж, в Рим прилетела весть, что в Египте полностью разгромлены войска Марка Антония и Клеопатры. Главный соперник Октавиана и его царственная супруга покончили с собой, дабы избежать позорного плена. При этом слухи многократно преувеличивали трофеи, захваченные Октавианом, и в очередной раз превозносили его полководческие заслуги и его неописуемую щедрость.
После полутора десятилетий непрерывных войн, сопровождавшихся обнищанием бедных и разорением знати, сладость долгожданного мира заставляла людей забывать и прощать многое: недавние безжалостные проскрипции, жестокость и бескомпромиссность Октавиана по отношению к сторонникам Марка Антония и непомерные, удушающие налоги… Ликование по поводу победы и обретенного трудной ценой мира проникло во все слои римского общества, подчинило себе все умонастроения. Земледельцы были счастливы отмене изнурительных поборов и захваченным в походе рабам. Городские торговцы и плебс радовались вернувшемуся на прилавки изобилию товаров, хлебу и зрелищам. Матери, жёны, сёстры и девушки на выданье приветствовали возвращение домой обогатившихся в походе легионеров. А таверны, лупанарии, цирки и театры получили мощный приток посетителей и резко возросшие доходы…
Даже вчерашние политические противники Октавиана рукоплескали ему, на все голоса славя неизменные римские идеалы: virtus, pietas, fides – дисциплину, благочестие и верность долгу.
К тому же Октавиан-победитель проявил неслыханную доселе щедрость. Всем ветеранам не только своей армии, но и побеждённой армии Марка Антония он раздал земли в южных провинциях и в самой Италии. Каждому легионеру выплатили по тысяче сестерциев на обустройство хозяйства. Солдаты и командиры, не являющиеся римлянами по рождению, получили помимо всего право римского гражданства и все вытекающие отсюда привилегии, права и свободы.
Эта щедрость не осталась безответной, и градус общественных восторгов ещё более возрос.
Правда, не обошлось и без конфузов. В библиотеке Полилона из уст в уста передавали анекдот, произошедший ещё в Брундизии.
Один из ремесленников поднёс Октавиану ворона, который произносил: «Ave Caesar victor imperator!» – «Да здравствует Цезарь, победоносный император!» Октавиан щедро наградил ремесленника. Но наутро следующего дня сосед донёс на награждённого, что у него есть и другой ворон, обученный также славить императора Антония. Октавиан не стал наказывать ремесленника, а лишь предложил ему поделиться с соседом деньгами, полученными в награду. И это только добавило восторгов.
Довелось познакомиться с Октавианом и мне. Это случилось в середине августа, незадолго до его триумфа.
Ливия настояла на том, чтобы дети не пошли на каникулы вплоть до октябрьских ид, а продолжали свои занятия.
– Долгий отдых расслабляет тело и ум. Детям Цезаря непозволительна праздность, их ждут великие дела на благо Рима, – вынесла она суровый вердикт, оставив свободными от уроков только дни празднования Сатурналий, Квинкватрий и чествования богини Минервы – покровительницы школ и искусств.
Надо сказать, что первоначально Ливия, проверяя мои способности, довольно часто присутствовала на уроках. Но убедившись, что дети слушают меня с вниманием, в выполнении упражнений проявляют прилежание, а я, в свою очередь, требователен к ним, посещать класс перестала. Впрочем, исподволь я продолжал ощущать её негласный и неусыпный контроль. Но и без него ко всем занятиям готовился старательно. Как выяснилось, не напрасно.
Октавиан появился на уроке незадолго до полудня. Он вошёл в класс в сопровождении Ливии, Мецената, Агриппы и ещё нескольких неизвестных мне приближённых. Столь неожиданный визит столь знатных посетителей, не скрою, привёл меня в замешательство и на мгновение лишил дара речи.
Так близко своего господина я видел впервые. Белоснежная тога с широкой багряной оторочкой подчёркивала юношеский румянец на гладких щеках. Светлые с рыжинкой волосы, большие миндалевидные глаза, пухлый, но очень аккуратный рот. Нос у Октавиана оказался вовсе не длинным и не изогнутым, как его изображали на серебряных денариях, отчеканенных в честь победы при Акции. Весь облик Октавиана, изящный и возвышенный, напоминал Аполлона, который и являлся его божественным покровителем.
«Царскую породу скрыть невозможно», – промелькнуло у меня.
Октавиан уселся на курульное кресло, тут же поставленное слугами сбоку от скамеек учеников. Сопровождающие его сановники встали за спиной. Все, кроме Ливии, для которой тоже принесли кресло. Когда все расположились, Октавиан с лёгкой улыбкой поднял холёную руку с тонкими пальцами и отполированными ногтями и дал знак, чтобы я продолжал занятие.
До его прихода мы упражнялись в свансории. Так называется у римлян речь высокого душевного накала, произносимая по случаю важного общественного события.
Ещё накануне я предложил детям подготовиться к защите или к обвинению военачальника осаждённого города, который имеет неограниченную власть, согласно которой установил – ни в коем случае не открывать ворота. Но так случилось, что ночью в ворота стали стучаться его соплеменники, бежавшие из лагеря врага. Военачальник не разрешил открыть ворота, и всех беглецов перебили преследователи. Когда вражеская осада закончилась, сограждане обвинили военачальника в государственном преступлении…
Тема для рецитации была нелёгкой, к тому же предстояло излагать её в присутствии самого Октавиана. Поэтому я почёл своим долгом напомнить ученикам основные приёмы риторики: обозрение, предуведомление, задержание, импровизацию. Дал совет, где применять анафоры, эпифоры, симплоки и исоколонны. Всеми этими риторическими фигурами я и сам, конечно, не владел в совершенстве, но мне важно было показать, как могут их использовать в речи мои ученики.
– Помните, уважаемые защитники и обвинители, – в конце наставлений блеснул я цитатой, – как говорил великий оратор Цицерон, поэтами рождаются, а ораторами становятся. Из этого следует, что упражнять речь оратору, надеющемуся на успех, надобно так же регулярно, как поэту шлифовать свои строки. То есть ежедневно, ежечасно, при каждом удобном случае…
При упоминании мной имени Цицерона Октавиан вопросительно посмотрел на Ливию и чуть заметно поморщился. Ливия понимающе улыбнулась.
Я предложил первым выступить Юлу Антонию, зная, что Октавиан благоволит к нему.
Юл Антоний начал с пафосом:
– К бедам неисчислимым ведёт открытие ворот крепости, которую осаждает враг. Грек Гомер нас упреждает: «Бойтесь данайцев, даже дары приносящих!» Троянцы пренебрегли советом этим мудрым и жертвою пали, ворота открыв. Мог ли военачальник, издавший закон, требующий не открывать ворот крепости, сам нарушить его? Разве не стало бы это сигналом для всех прочих поступать подобным образом в иной ситуации, а после искать оправданье себе? Dura lex, sed lex. Закон суров, но это закон. Можно ли считать преступником того, кто строгий закон исполняет во имя высшей цели? Военачальник, спасший город, должен быть оправдан, – заключил он.
– Будут ли иные суждения? – спросил я.
– Будут, – подал голос обычно молчаливый на уроках риторики Тиберий.
От моего внимания не укрылось, как на одно короткое мгновение сдвинулись к переносице брови Октавиана, и тут же лицо его снова уподобилось царственной маске. Ливия, напротив, просияла.
– Говори, Тиберий, – подбодрил я.
Тиберий заговорил непривычно громко и смело:
– Юл Антоний, защищая поступок военачальника, предлагает оправдать трусость. А трусость на войне – государственное преступление. Равно как преступлением является отказать в праве на спасение согражданам, оказавшимся в беде. Юл Антоний говорил нам о законе. Да, закон суров. Но этот закон установлен самим военачальником, запретившим открывать городские ворота. Он же обладает правом для отмены закона в случае, если это необходимо. Этим правом военачальник не воспользовался. И это – преступление против своих сограждан. Пиндар утверждал, что необходимое основание всякого государства – справедливость. Будет ли справедливым не наказать того, кто защитил город от врагов, но принёс в жертву собственным страхам жизни сограждан, которые мог спасти? Я за то, чтобы виновный был казнён как человек, изменивший своему долгу.
– Прекрасное выступление, мой сын! – воскликнула Ливия.
Неожиданно со своей скамьи вскочила Юлия. Глаза её горели. Не дожидаясь разрешения, она выпалила, обращаясь к Тиберию и Юлу Антонию:
– Вы оба не правы. Так как оба категоричны. Вспомните, как говорил Аристотель: совершать поступок можно по-разному, между тем правильно поступить только одним-единственным способом. В том причина, что и избыток, и недостаток присущи порочности, и лишь обладание серединой – добродетель… Военачальник, поступок которого мы обсуждаем, и прав, и не прав одновременно. Только ему было известно, что значило открыть ворота в условиях осады, был ли риск допустимым или же он был чрезмерным, можно ли было подвергать тысячи жизней ради призрачного спасения десятка или нет… То, что является справедливым в мирные дни, не является таковым во время войны… Сограждане, не осудившие своего полководца во время осады, не вправе судить его после победы. Ибо победителей не судят!
В этот момент раздались редкие хлопки. Это Октавиан приветствовал речь своей дочери. Вслед ему дружно захлопали и все остальные.
Октавиан поднялся со своего кресла, и аплодисменты сразу смолкли.
– А знаешь ли ты, Юлия, – спросил он, – чем отличается историк от поэта?
Юлия не смогла ответить.
Октавиан вперил свой светлый взор в меня:
– А ты знаешь, учитель?
– Да, господин.
– Так выручай свою ученицу…
– Аристотель определил, что поэт и историк отличаются друг от друга не рифмованной речью, а тем, что один говорит о случившемся, а другой о том, что могло случиться. Потому в поэзии больше философского, чем в практической истории, ибо поэзия показывает общее, тогда как история только единичное…
Октавиан выслушал меня молча, кивнул небрежно и в сопровождении свиты удалился из зала.
После занятий меня призвала к себе Ливия.
– Благородному Октавиану понравился урок, – сказала она. – Продолжай в том же духе. Только запомни и впредь… никогда больше не ссылайся на Цицерона. Это приказ господина!
Я склонил голову в знак повиновения, всё же недоумевая, чем цитата из речи знаменитого оратора могла не понравиться. Цицерон, насколько мне известно, был верным союзником Октавиана ещё в самом начале его борьбы против Марка Антония. И оставался таковым до самой своей кончины. Я не мог объяснить, с чем связан запрет на упоминание его имени, особенно при обучении искусству, в котором Цицерон не знал себе равных.
Вечером того же дня всезнающий Агазон растолковал мне:
– В Октавиане просто говорит стыд. Это ведь не Цицерон предал Октавиана, а он предал Цицерона. Образовав с Марком Антонием и Лепидом второй триумвират, он не воспротивился включению знаменитого оратора и своего «политического отца» в проскрипционные списки…
– То есть, по сути, Октавиан обрёк своего благодетеля на смерть?
– Совершенно верно, юноша. Но одно дело поступить так исходя из политической необходимости, и совсем иное – жить потом с воспоминанием об этом… Если у избранников богов и остаётся то, что простые смертные называют совестью, то именно совесть теперь и не позволяет Октавиану слышать имя человека, бывшего ему наставником и преданного им… Помнишь, я как-то советовал тебе держаться от политики подальше? – Агазон хитро прищурился и тут же спросил совсем об ином: – А ты, кстати, не обратил внимание, с каким предубеждением благородный Октавиан относится к своему пасынку Тиберию?
– Нет, я ничего не заметил.
– Жаль. Раз уж ты оказался там, где от политики никуда не деться, будь внимательней к мелочам, и у тебя на многое происходящее откроются глаза.
– В чём же Тиберий провинился перед Октавианом? Он ведь совсем мальчишка…
– Да, мальчишка. Но уже достаточно взрослый, чтобы помнить несправедливость, проявленную по отношению к его отцу, чтобы не забыть предательство своей матери. Разве Тиберий забудет все эти унижения? Он уже в состоянии соотнести развод отца с Ливией, его последующую ссылку и неожиданную смерть. Думаю, он уже достаточно подрос, чтобы делать собственные выводы.
– Да, Тиберий на это способен, – согласился я. – У этого мальчика сложный характер и светлая голова. Сегодня на уроке он вполне убедительно продемонстрировал независимость своих суждений и жёсткость оценок…
Агазон хмыкнул:
– Что ж, значит, неспроста Октавиан как-то признался прилюдно, что никак не может разглядеть, что за человек его пасынок Тиберий…
– И что же Ливия? Она, конечно, вступилась?
– Да, говорят, она сказала: «Октавиан, а ты разгляди в Тиберии моего сына и за это одно его полюби… Ты ведь смог полюбить Друза!»
– И ты веришь, Агазон, что Октавиан когда-нибудь одарит своей благосклонностью Тиберия?
– Ничего иного ему не остаётся, как любить своих пасынков с одинаковой силой. Иначе его избирательность приведёт Рим к новым гражданским войнам. – Агазон уткнулся в древнюю греческую рукопись, давая понять, что её содержание волнует его куда больше, нежели предположения о будущем римского государства.
Как бы там ни было, но события ближайших дней показали, что к словам своей жены Октавиан всё-таки прислушался.
В день триумфа на празднично украшенной колеснице рядом с ним стоял не Агриппа, чей блистательный полководческий талант принёс Октавиану очередную победу. Триумфатора сопровождали его юные пасынки и мои ученики – Друз и Тиберий…
Глава третья
1
В год своего седьмого консульства, осуществляемого совместно с Марком Агриппой, Октавиан получил от Сената полномочия цензора. Это давало ему право контролировать всю финансовую жизнь в государстве, следить за строительством и содержанием общественных зданий, надзирать за нравами, но главное – исключать из сословия патрициев и всадников всех неугодных. В том же году впервые за сорок лет провели ценз и составили новый список сенаторов, в котором имя самого Октавиана значилось первым. Так Октавиан стал принцепсом пожизненно.
Принцепс – первый среди равных по старинному римскому обычаю не обладал особыми должностными полномочиями. Но это звание считалось почётным, давалось только представителям старших патрицианских родов: Эмилиев, Клавдиев, Корнелиев, Фабиев, Валериев…
Казалось бы, влияние принцепса невелико, но при ежегодно сменяемых магистратурах он, постоянно стоящий во главе сенаторов, становился определяющей фигурой. И хотя само звание принцепса вовсе не равнялось титулу императора, а как бы напоминало о далёких временах аристократической республики, на самом деле первый шаг к созданию новой империи был сделан. А приверженность республиканским идеалам, которая подчёркивалась Октавианом при каждом публичном выступлении, являлась не более чем фарсом и ловушкой для простаков.
Далее последовали новые шаги. Уже в январские иды следующего года на заседании Сената Мунаций Планк предложил назвать Октавиана Августом, и все сенаторы единодушно одобрили это.
С этого времени мой господин Гай Октавиан Фурин сменил имя, полученное при рождении, и стал официально именоваться: Imperator Caesar Augustus divi filius – император Цезарь Август, сын бога.
Звание «сын бога» ко многому обязывало.
Чтобы закрепить свой новый титул в глазах сограждан, Август начал строительство десятка новых храмов, за год отремонтировал в одном только Риме восемьдесят культовых мест – значительно больше, чем за всё предыдущее десятилетие.
Демонстрируемая набожность принцепса самым невероятным образом сочеталась с компанией по возвеличиванию «сына бога». И если прежде Октавиан отличался личной скромностью, то теперь в городе как грибы стали множиться его статуи и бюсты. Его непритязательность в быту уступила место тяге к роскоши. На Паллатине началось строительство нового грандиозного дворцового комплекса, куда вошли личные апартаменты принцепса и покои членов его семьи, церемониальный дворец для государственных приемов, храм Аполлона с алтарём и портик Данайди, который замышлялся как новый Форум. Здесь же были спланированы библиотека, санктуарий – святилище и просторная терраса с видом на цирк Массимо.