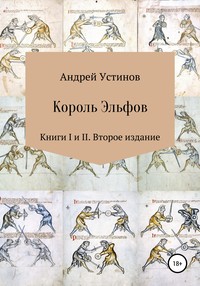
Король эльфов. Книги I и II. Второе издание
– Карента, чтобы тя. Успоковался, франчонок? Зазнать бы еще, хде она, а? Тамгрят девки – волшевницы! – Серж хохотнул, треснул какую-то ветку и перегарный роздых приблизился почти к лицу. – Молодчик, мастер Геэль, молодчик, так вот и стражи. – Тяжелая железёная вачега долбанула мне по плечу… – Охе-хо! А! Не мычишь? Молодчик! Завтрема вот, в уволку прихвачу с нами, а? Юбашонок-то гоношить-щипать, а? Устроим им Каренту, а? О-хе-хо! Вот, кстаже, а хде там мой Щербачок? Щеербочка? – загнусавил, отвратно хохоча. – Позыв у ме, хе-хо, обслужи уж по-франковски!..
О Глах!
У меня… У меня не было тогда воли сражаться с сержем по-мужски. Хотя какой там муж? Самое достойное ему – топориком бы сзади до жижи, аки слизняка. Но и на это не было сердечного порыва. Да и была бы воля – что бы сделал? И куда бы пошел? И потому – я лишь дернулся слабовольно, будто самого меня ткнули стебарю в причинное место, кадык заплёкался в безгласом спазме, да серж ответа и не ждал, – похрюкивая, уже пробирался наощупь в утробу поста…
А я лишь отшатнулся с его пути, стыдливо перегнулся через планширь в темную сырость, разблевываясь и давя звук, пока там, в душном посте, меняли друг друга хрюканье и хныканье, сопение и какое-то чмоканье… ббббоже… ааагрх, хггр… фуух… вот, тля… ну, вонец… не учуял бы, ирод.
– Ааа, слатенький! – заорал серж внутри, перебивая истошный Щербачовский писк. Еще поорал, пугая подкрышных нетопырей (так абрашки и сполошнулись из-под строп) и выпростался наконец в улицу, что-то приволакивая хвостом (кажись, портупей) и тяжко вздыша. От разлившегося кругами мерзового духа, от жаркой туши, почти трущейся о локоть, мне опять заворотило кишки чуть не до горла, еле устоял на млеющих поджилках – ошершил даже щеку о стену, да косяком и приочнулся.
– Охе-хо. Стовай мне, рымля… Ну, завтрема, франчонок. Стражи мне тут… Щербочку мою стережи… О-хе-хо! – протоковал ирод на роздыхе, почти нежно, и опять одарил меня варегой, тля, да уже без злого размаха, и попер-попер-попер натуральным одинцом, хвоща и ломя зазря полноягодный ще боярышник, будто не сознавая дорогу. И ниже зачавкал по ольхам, к ручью… видать, бошку от зелья отмочить. Да никакой эльфийской влажи на сю скверну не хватит! Ах, тля… Ааагр… фуух… урод же.
Вскоре человечий треск утих и опять тревоги – то нетопырь обратно под ендову скребется, то осьмизубы в лесной подстилке слепошатся… то ли палый гландис (ну, желудь) прополошил осоку, то ли совушка погадку отрыгнула. По-настоящему, я токмо черного одинца и опасался – ладно бы желудился, а то привадился по корням трюфеля ковырять, нешто делиться? Но то днем… А ща точию завидовал желтоглазихе-неясыти, как ей все ведомо и явно в ночной паутине. Еще выругнулся на сержа по-детски (чтоб до полудня хрипелось), отыскал с пола давешний факелец, потыкал ветошью в затаенную крынку с деревянным, трудно раскурил огниво… хмурясь, прогрел махоточку отвара (горчит немилостно). Эх! Факелец приладил пока в щель меж хилыми сосновыми гредами (эх, криволапы), сам присел-привалился на негодный обрубок, насильно прихлебывая. Пламя шипело над ухом, обессиленно тщась укусить, заполняя плескучей щепотою весь мой тогдашний мирок…
Что же, гордиться мне нечем. Но я часто возвращаюсь памятью в ту ночь, где столь густо перемешалась вся путаница тех дней. Когда я жил, ей-глаху, как слабоумный подросток… сущий dérangée, кому довольно было минуты, чтобы перейти от плача к смеху. Какое же метарейское слово? Блажеверный? Когда не думаешь об окружающем зле, а просто сосуществуешь с ним. Когда и воспоминания, и сны – легко перемешивались в детском моем сознании, будто в некой Аристофеновой комедии. И ежели я выступал в той комедии первостатейным горховым шутцом – так и что с того? Надо быть честным с прошлым, даже не для друзей (им-то можно хоть три короба пестрых лент на уши накрутить!), но для себя. Ибо только помня прошлое можно видеть будущий путь. Ибо никогда не нужно приукрашать себя, но недокрашивать – можно. А ежели и приукрашивать, то сатирически и преувеличенно, будто на ярмарке под кривым стеклом. Хах! Помните свои кривые образы? И потому, что столько раз вспоминал и перебирал в памяти каждый свой огрех, рассказ мой уже не рассказ очевидца, а будто перевранный трижды парафраз нелепой сатиры, где перепутаны сон и явь. Но что же делать, если заслужил эту сатиру? Итак… Я безглашно дремал на посту, и во сне переживал заново другой сон, с которого начались мои Метарские службы…
А было так: сон был густой, без сполохов, и вдруг-да будто льняное полотно души начали пожигать лучинами… да, будто меня пытали за колдовство, за вожество с эльфами, за неведомые мироскольные страсти. “На одр шельмеца”, приказал кто-то темный, а ложе было – набитая гвоздьями дощина, да еще раскаленная. Сами-то пытатели точно были чернокнижники, ибо как же так? Доска и коркой не тлела, но жгла спину немилостно. И вот – они кричали на меня назвать грядущую королеву. И Гаэль (это я), хотя и во сне, хотя и мучимый нестерпно, почему-то неуемно и злостно хихикал над ними, ибо ведал (не знамо как), что были они суть-невеждами и про будущее – даже правильного пророчества не зрили в тех лучинных скрижалях. И гвоздья израстали все новые и новые из ощерившейся глазка́ми доски, плавились на жару и ростились в погань, в дурнушник шипучий, слоясь на черешках в двух-трехраздельные колючки. “Нет, он ничему не пророк и не свидетель!” – причёл разочарованно кто-то темный, не разглядев во мне корысти, и Гаэль (это я) ажно разыкался от горького смеха сквозь злые уколы дурнушника, как же нет в нем корысти, ибо он и был центром миротока? Аааа! – уже взвыл я, Гаэль Франк, выпадая изо сна, ибо не проспел познать их тайнозвонное слово: но что же суть мир-о-ток?
– Ух-фу, ух-фу… – я дрожал, скукожившись, часто-часто дыша, опять не помня себя. Тело (не я) начало как-то распеленываться, усаживаться, обживаться… Где же? Бесцветная сыростливая камора, чёй-то тусклеет и шуршит (улица?) из амбразуры над головой… ах, и каплет с ее подошвы за шиворот. Справа дверь окованная, но с подвыбитой доской, еще там в углу некий чугунок, ч-ч-что же это, урыльник да без крышки? В нос той же миг шибанули мерзостные миазмы и тело вяло скособочилось, блевно изрыгаясь под стену, всю и без меня шедшую сохлыми пятнами… ух-фу… да нечем изрыгаться. Пробила испарина… голова, хотя в тумане, что-то начала соображать – я в стражнице, поди? Брошенный надысь бесчувственным кулем на дощаное лежбище, но без тюфяка, прям-да на нестроганые задорины. Еще занятно: толстые крепкие ноги лежбища одеты в железные тазы… ха, будто в рваные боты! Да-да, присно и вода тамо же гноилась, судя по обильной слизи, да проржавились уж всквозь… К чему бы тазы? Тут рука левшая сама ишь-то потянулась расчесать раззудшую отлежанную щеку, да я и взвизгнул по-бабьи, вскочив и ощупываясь: запястье, да что, вся рука, весь я… весь был в мелочных ранках; по всей плоти торжествовали раздувшиеся кровяные гладыши – их шевеление ощутилось разом и под запятнанной вдрызг сорочкой, и за ухом чой-то (пшел!) заскреблось… и в яйцевище (ох, Голох!) засвербило нестерпно.
Тако и помучался, разоблачившись до зяблых нагишей, давя клопьев по всем швам и по́лам, облачившись было брезгливо… да и опять, но ничё уж не сыскал на третий раз, – вышло, по мнительности досада. Но все-то вздрагивал и взрыпливался опять расчехвоститься, сидел нахохленно, бубливо голохясь под нос, пока терпеж не подошел. Кое-как, прижав ноздри, дыхая в ладонь, оправился у чугунка и отскочил с запинкою, с портами на коленах еще, кропля еще глинистый пол, обратно под скудосветную амбразуру – поветрие посвежее словить. Но в дверь не бил бивмя и стражу не зыкал вельмово, давешней трепки хватило.
Наконец – я дернулся от дремы. Кто-то далече в коридоре жмакнул железной дверью, прохохотал эхом во все закоулки, протоптал тяжко до моей каморы, скрипанул ключем в скважине и бухнул сапогом по окантовке. Дверь испуганно ломанулась внутрь и в проеме заплясали огневые тени, затем выказался статный усач в кожаном прикиде стражника (таких-то я и следил вчера по городищу). Малый приладил факел в крепеж на стене, только при огне и развидевшийся, почистил от чего-то картофельного ус, потешно скосив глаза, затем сочно сплевнул какую-то бурую жвачку в сторону чугунка, цыкнул, что-то выцепил в зубе кривым засаженным пальцем, еще хрюкнул носом и сплевнул еще, будто на меткость, и добродушно воззрился на меня:
– Ну что побылось? Гуторишь по метарски-то, а, блаженный? – Голос его оказался сочный, особо гулкий по каморе, действительно обильный слюной (ибо стражник снова весело плюнул в чугунок), и живо напомнил виденные вчера на фруктовом развале желтые пузырчатые срезы помпельмуса.
– Не… ны… – замычал я, взвившись было на новый окорот вроде “не знаю чина вашего, господин хороший” (ах, всё злые следы риторики, коей меня зазря потчевали дома!), да вовремя осекши язык. Да еще потянувшийся с коридора запах кухни пустил стокмую резь по желудку, что оный буркнул простодушно, вовсе уравнивая меня с усатым пришельцем (про себя я уже окрестил его картофелеусом). – В-вполне разумею, мой сударь, – я ответствовал в итоге несколько нахохлисто, но без верхних ноток в голосе. Метара его ведает, к добру ли тот малый?
– Агась… – Стражник вдруг разухмыльнулся, абы заклад выиграл. Засим вдумчиво дал двери пару добродушных тумаков, выпростал факел взад и подшагнул ближе: будто подпалить меня хотел (с перепугу помни́лось), да на тусклом луче из амбразуры факел утих и лишь тихо шипел. – Ну, ходку-то выходишь? Больно ты блажил давеча… – Еще покрутил на меня белесыми глазами и добавил, ажно причавкнув и сам себя переплюнув: – Как ты пожрать-то? А потом до коменду погре… хр‑р, тьфу!.. потолкует с тобой за твое рожьё.
Итожно – картофелеус вывел меня в харчевальный зал, где моложавая стряпиха хохотнула невнятно: “Новенный, что ль? На поскребушки и соль!”, – и чавота нарочито наскребла мне с котла. Я и хотел, да уже не мог рассориться, совсем поплыл головой при явном виде и дыхе еды – густая бобовая кашица, даже, кажись, со шпиковой нарезкой и черными чесночными зернами. Ткнулся с поданною ущербной миской за ближний стол, где под светильником завидел еще ничейную пару горбушек серого, да и принялся ломтевать кашу в рот… о‑о… от же горячий пересол! Проводник мой тем часом подсел к четверке окоженных мужланов (ох, и непробный тут народец требуют в стражу! дворяне ли вовсе?) и я, отходя от первого жора, начал уже почище выскребать плошку хлебом и даже с любопытством прислушивать… Гундели примерно так:
– …и так засранцы щедровали по домам, и тот Грегор, кабы что, подмускатил дружка из Голоховских служек, чтобы надписал им харателину, мол, выдана префектом сифонариев. Токмо когда на жнивне вышел пожар в гадальной кварте, попали они на главного схоласта, тот и спросит: кто таковы? Грегор ему на́ свою диплому в нос – мол, от герцога поможатели. Тот прощелыга тоже – пустил их мнимо, а сам секретаря до нас выгнал. Комендус его пыжит: ты что же такой-сякой препоны тлеешь моим помповикам? А он – да какие тать-ять вашеские сифонарии, когдать такая подделка! Так и записано: выдана префектом сифилариев!
Аааааа! Хохотливое эхо так и забилось гусью-лебедью под низкими сводами харчевальни. Да точно Момос, веселый божок, самолично посетил нажорников: один топотал по гулящей половой доске до несносного резонанса, другой, слезясь в ручьи, кувасил по столу латной варегой, так что дрожали сбившиеся в испуганную отару оловянные кружки, третий… От седних неприбранных столов и другие служивые потянулись, роняя утварь, узнать анекдот… корчась от гоготливого удушья, отваливались обессиленно, истово шлепая друг друга по плечам чуть не до преставления. Мне, ради Глаха, странно было их наивное веселье: никто ли не ведал буквы настолько, чтобы усомниться в бытности срамной описки? Но, как бы ни там, подпав под сей клацающий хохочущий рой, да особо после пряной запивки с общего кувшина, и мое настроение тажно вспенилось… вообще, от еды развезлось по всему телу теплое умиление, хотя что-то нет да и бурчало в толобасе живота.
Идти к коменданту пришлось сквозь улицу – из черной двери в углу дома мы вывалились в денное солнце и говорливую толпу; в нос били запахи редиса и тимьянного меда из расставленных прям-вдоль стены лозовых корзин и перетянутых ремнями кадок; в проулке мокрое линялое белье трепеталось сквозь мористый ветерок и вяхиревое сражение в пыли за какую-то корку. Затем – во двор с белесыми колоннами и выше-выше по щербатой лестнице; настроение мое тажно вышилось с каждой потертой ступенькой, будто по мажорным нотам: как же не признают во мне дворянина? да определят может к энтому герцогу! или вселят в трактир, пока отпишут домой! и поручат временно кошель энтих… как… левов! и уж буду-то осторожней с элем, и девку возьму одну для качества… аль двух ли?!
Солдат (другой уже, белобрысый веснушарик) завистно придержал меня, зажав в горсть клок моей куртки и отянув назад. В светлой, крашеной охрой комнате без двери – за входной аркою, сквозь солнечные клинки наискосок, виделся боком давешний добротный бородач: нынче-то в зеленом плотном мундире, впрочем, расстегнутом на часть крючков, знамо, от усердия! Будто пыжащийся за тяжким дубовым столом над кожистым пергаментом с угнетенными краями – знамо, неподдельная герцогова хартия, коли даже папье-прессы в виде диковинных змеев! Комендант простыл над нею со стилусом во взнесенной руке, вотще водя по воздуху какие-то знаки зодиака, в школярских муках плутая по завиткам букв; в завитой бороде его тяжелились потные капли…
Аха-ха! Тогда, на ночном посту, даже просквозь дрему, я шибко прихлопнул в ладоши от столь славного сна. Как забавно, спустя годы, смотреть на себя со стороны! Казалось мне, ей-ей вот ухвачу птицу-удачу за злащеную гузку, но от хлопка моего, от вздражения стенки под спиной, хилый факелец пал обратно на земляной пол: пламя пышнулось обидчиво кривыми хлопьями, да тут же выродилось в тлен и скверный чад. И подручный сон, люди и слова-птицы, даже сам фантастический образ мой, яркий абы любо-молодец, начали киснуть как под порчей, обличаясь школярскими карикатурами…
Вот так было:
– А-ха! – я вальяжно было хохотнул, все еще в добродушном настроении, предчувствуя яркое возвышение своей позиции грамотея-астро́нома при дворе, но ах! Веснушарик так прицельно, як-же муху, шлепком осадил меня по губам, что я самотельно съежился, попомнив тычки наставителей в ликейоне, покрылся затем пунцовыми пятнами и забулькавшими в груди выдохами… уфф!.. тожвременно кипятясь воображением гнева и стыдностью детской знобы в костях. Уфф!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
