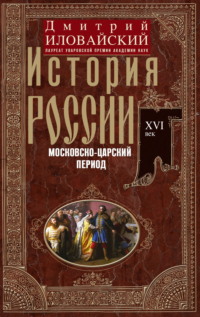
История России. Московско-царский период. XVI век
Когда великий князь, после основания города Васильсурска на границе с Казанской землей, возвращался из Нижнего Новгорода в Москву, бояре и дьяки стояли и ждали государева въезда в город. При этом Берсень заметил Жареному: «И зачем великий князь ходил в Нижний? Поставил лукно на их (Казанской) стороне, то как же мир с ними взять? Ставил бы лучше город на своей стороне». По тому же поводу Берсень рассказал Жареному свой разговор с митрополитом.
«Сижу я у митрополита один на один, и митрополит воздает великому князю большую хвалу за то, что город поставил, которым городом всю Казанскую землю возьмет. „Бог его избавил от запазушного врага“, – говорит. Спрашиваю: „Кто это запазушный враг?“ – „Шемячич“, – молвил митрополит. А сам забыл, как Шемячичу грамоту писал за своею печатью, клялся ему образом Пречистыя, чудотворцами, и на свою душу взял».
В подобных откровенных разговорах ясно отражаются настроения недовольной части общества, личные счеты и те пересуды, каким подвергалось правительство со стороны этих недовольных. Они сетовали на тяжести службы и не хотели видеть трудного положения московских правителей, одновременно доканчивавших великое дело объединения Руси и ведших непрестанную борьбу с внешними врагами. Все общественные бедствия, свои частные невзгоды и уже давший себя чувствовать железный скипетр самодержавия они готовы были объяснять только личными качествами государя и влиянием его матери, давно умершей; причем и суровый Иван III в отдалении представлялся им гораздо более ласковым и милостивым, чем был в действительности. Даже в таком полезном деле, как основание нового опорного пункта для борьбы с казанцами, высказывалось охуление, почему город поставили на правом, а не на левом берегу Суры.
Тем не менее жалобы на недостаток печалования и немилосердие Василия Ивановича в данном случае оправдались. За нескромные речи о государе Берсеню Беклемишеву отрубили голову на Москве-реке, а Федору Жареному вырезали язык.
По сему делу Максим Грек оказался виновен в том, что слушал подобные речи, причем обнаружились его дружеские связи с лицами, противными великому князю и митрополиту. И митрополит, и великий князь имели с ним личные счеты по поводу его обличительных посланий; кроме того, намерение Василия III развестись со своей неплодной супругой и жениться на другой встретило неодобрение со стороны Грека, столь авторитетного в канонических вопросах. Почти вслед за помянутой казнью начался суд над Максимом, для чего происходили частые соборы духовенства то во дворце государя, то в палатах митрополита. Его обвиняли в сношениях с врагами России (турецким послом), в осуждении русских церковных уставов и книг, в охулении русских чудотворцев Петра, Алексея, Ионы, Сергия, Кирилла и других за то, что они держали волости и села, собирали оброки и пошлины. Обвиняли его даже в разных ересях при переводе книг; чему подали повод некоторые неточные выражения, происшедшие от его недостаточного знакомства с русским языком. Суд кончился тем, что Максима сослали в Иосифов Волоколамский монастырь, где держали его в строгом заключении, в голоде и холоде, и запрещали ему что-нибудь писать и сочинять. Однако, твердый в своих убеждениях, Максим не признавал себя виновным и вопреки запрещению продолжал сочинять обличительные послания (или «тетради»). Митрополит Даниил, со своей стороны, не успокоился до тех пор, пока Максима, спустя шесть лет, не подвергли новому соборному суду. Тут выставили против него те же обвинения с прибавлением некоторых новых ересей, то есть ошибок, отысканных в его переводах и грешивших против догматов о Пресвятой Деве Марии и о Святой Троице. Его вновь осудили и заточили на сей раз в тверской Отроч монастырь (1531 г.).
После первого суда над Максимом Греком его друг Вассиан Косой еще сохранял, по-видимому, расположение великого князя. Но когда совершились развод и новый брак Василия Ивановича, Патрикеев относился к ним очень неодобрительно, чем и охладил к себе государя. После рождения сына и наследника Васильева митрополит воспользовался обстоятельствами и настроением государя и добился того, что вслед за вторым осуждением Максима был назначен соборный суд над Вассианом (именно в мае того же 1531 г.). Главным обвинительным пунктом против него послужила помянутая выше Кормчая, которую он «дерзнул» переправлять по-своему; причем осуждал некоторые прежние правила и называл их «кривилами», а русских чудотворцев осмелился называть «сумотворцами» за то, что они при своих монастырях имели села и крестьян. Князь-инок не смирился перед судьями и держал себя с обычной своей гордостью. Так, когда ему указали примеры древних иноков, которые хотя и владели селами, однако успели угодить Богу, он заметил: «Те села держали, но пристрастия к ним не имели». На вопрос митрополита, почему же он думает, что новые чудотворцы были пристрастны к селам, Вассиан дерзко отвечал: «Не ведаю, чудотворцы ли то были». Тут речь шла собственно о митрополите Ионе и Макарии Калязинском, коих канонизация в то время еще не получила окончательной, общепризнанной формы. Когда митрополит напомнил Вассиану его резкие отзывы о Макарии, тот заметил: «Я его знал; простой был человек; а чудотворец ли он, пусть будет как вам любо». Отвечая на упреки митрополита за разные неканонические изменения в его списке Кормчей, Вассиан прибавил: «А буде что негораздо, и ты исправи». Наконец, его обвинили в той же ереси против догмата о Пресвятой Деве, как и Максима Грека, ибо при переводе сим последним Метафрастова жития Богородицы Вассиан участвовал в неправильном истолковании некоторых важных мест. Собор осудил Вассиана и заточил его в тот самый монастырь, с которым он наиболее враждовал, то есть в Иосифов Волоколамский. Там он вскоре и умер, вероятно вследствие тяжелых лишений и сурового обращения своих надсмотрщиков.
Так трагически окончилась при Василии III эта борьба монастырских нестяжателей с их противниками. Последние стояли за такой монастырский строй, который складывался постепенно в течение веков; они стояли также за исторически развивавшееся самодержавие и, естественно, нашли в нем могучего покровителя. А нестяжатели, проповедуя евангельские отношения, в то же время защищали некоторые старые, отжившие порядки. Вассиан Косой, как поборник древних дружинно-боярских притязаний на ограничение княжеской власти, является прямым предшественником знаменитого князя-боярина Андрея Курбского12.
Немалую долю в опале Максима Грека и Вассиана Косого играло их неодобрение разводу великого князя с супругой.
Василий Иванович очевидно сознавал государственную важность прямого престолонаследия от отца к сыну. В этих видах он не позволял своим родным братьям жениться, пока сам не был еще обеспечен в своем прямом потомстве. Вообще, он братьев своих держал под строгим присмотром, и когда они жили в своих уделах, то в числе их окружавших находились, которые доносили великому князю не только об их поступках, но и обо всех подозрительных разговорах. Таким образом, предупреждаемы были всякие попытки к какой-либо крамоле или к тайным сношениям с королем Польско-Литовским. Двое из братьев, Семен и Дмитрий, умерли (первый в 1518 г., второй в 1521 г.). Оставались в живых еще двое: Юрий Дмитровский и Андрей Старицкий. К немалому огорчению Василия, более чем двадцатилетнее его супружество с Соломонией Сабуровой было бездетно, и великокняжеский престол после него должен был перейти к брату Юрию. Согласно с обычаями и суевериями той эпохи, Соломония тайно обращалась к знахарям и знахаркам, испытывала разные их средства, чтобы получить детей и сохранить любовь мужа, но ничто не помогало.
Одно летописное сказание изображает сетование великого князя в следующей поэтической форме. Однажды, во время объезда по своему государству, он ехал на позлащенной колеснице, окруженный телохранителями, и, посмотрев наверх, увидел на дереве птичье гнездо. «Горе мне! – воскликнул он. – Кому уподоблюсь? ни птицам небесным, ни зверем земным, ни рыбам, все они плодовиты суть. – И, посмотрев на землю, прибавил: – Господи! и земле сей не уподобился я, ибо земля во всякое время приносит свои плоды и благословляет Тебя». Осенью, воротясь из объезда в Москву, он начал думать с боярами о неплодии великой княгини и говорил со слезами: «Кому по мне царствовать на Русской земле? Братьям ли? Но они и своих уделов не умеют устроить». Некоторые угодливые бояре, понимая его желание, отвечали на это: «Великий государь! неплодную смоковницу посекают и измещут из винограда».
Но развод был делом необычайным на Руси и почитался грехом против церковных уставов. Вероятно не без связи с таким намерением великого князя совершилась перемена митрополита: вместо строгого, неуступчивого Варлаама поставлен Даниил, явившийся усердным исполнителем желаний Державного. Однако не вдруг приступили к осуществлению данного намерения; сначала обратились, по-видимому, за советом и разрешением к восточным патриархам и на афонские монастыри. Но оттуда получили неодобрительные ответы. Тогда митрополит Даниил собственной властью разрешил развод. Тщетно Соломония не соглашалась сделаться монахиней; в ноябре 1525 года ее силой привезли в московский Рождественский монастырь; сам митрополит обрезал ей волосы; надели на нее монашескую мантию, или куколь, и постригли под именем Софьи; после чего ее отвезли в Суздаль и заключили там в женском Покровском монастыре. А в январе 1526 года «о свадебницах» (время свадеб, от святок до Масленицы) великий князь вступил в новый брак, с племянницей известного литовско-русского выходца князя Михаила Глинского Еленой, дочерью его, тогда уже умершего, брата Василия. Венчал их сам митрополит. Вообще, эта свадьба сопровождалась всей царской пышностью и теми многочисленными народными обрядами, которые в те времена на Руси были в полной силе, каковы: тысяцкий, дружки, свахи, опахивание жениха и невесты соболями, осыпание хмелем из золотой мисы, иконы с тафтяными убрусами, которые по концам были сажены жемчугом, бархатные и атласные платки, ширинки, камки подножные, золотые и серебряные деньги, калачи, перепечи и сыры, караваи и свечи, поставленные в кад с пшеницей, постель на ржаных снопах, кормление новобрачных жареным петухом и кашей; государев конюший (князь Федор Васильевич Телепнев), всю ночь разъезжавший с обнаженным мечом вокруг подклети или спальни, и так далее. Тысяцким на свадьбе был брат государя Андрей; роли дружков с обеих сторон исполняли знатнейшие бояре, а обязанности свах – знатные боярыни.
Однако многие современники не одобряли развода с Соломонией и второго брака Василия; ропот их нашел отголосок у самих летописцев. На Соломонию смотрели как на невинную жертву насилия. Сложилась даже легенда, будто во время своего пострижения она оказалась беременной и потом произвела на свет сына, по имени Георгия. Она прожила в монастырском заключении еще целые семнадцать лет. Меж тем Василий выказывал большую привязанность к своей молодой супруге, вероятно кроме миловидной наружности владевшей более утонченными манерами, чем московская женщина того времени. Желая нравиться ей, великий князь, которому было под пятьдесят лет, сбрил бороду, вопреки господствовавшему великорусскому обычаю. По просьбе Елены он велел освободить из заключения ее дядю, Михаила Глинского, который вновь занял почетное положение при его дворе. Однако, к немалому огорчению Василия, первые годы его второго супружества оставались бездетными; великий князь с супругой начали усердно ездить по монастырям; раздавали щедрую милостыню и молили угодников о своем чадородии. Наконец Бог услышал их молитвы: в августе 1530 года родился у них сын Иоанн, будущий Грозный царь. Обрадованный Василий повез младенца в Троицкую лавру, и там окрестили его у гроба св. Сергия; восприемниками его от купели были два известных подвижника: столетний старец Касьян Босой и игумен Даниил Переяславский. При сем великий князь положил новорожденного на самую раку преподобного, как бы отдавая его под защиту прославленного заступника и покровителя московских князей. А для мощей двух других московских угодников, св. митрополитов Петра и Алексея, он заказал отчеканить новые богатые раки, для первого золотую, для второго серебряную. Кроме того, он снял опалу с некоторых провинившихся бояр, простил многих заключенных в тюрьмах, оделил многих бедных, и вообще ознаменовал свою радость разными делами милосердия и благотворения. В следующем году Елена родила второго сына, Георгия. Тогда великий князь, обеспеченный в собственном потомстве и прямом престолонаследии, разрешил младшему брату Андрею вступить в брак и женил его на княжне Хованской. От этой эпохи до нас дошло несколько писем великого князя к Елене, написанных во время его отсутствия в Москве. В них ясно обнаруживается его любовь и заботливость о жене и детях, особенно о старшем. Между прочим, жена уведомила его, что у малютки Ивана показался на шее веред. Василий встревожился и засыпал жену вопросами о том, что это такое, давно ли, бывает ли у других детей и тому подобное. Он поручает ей расспросить опытных боярынь и подробно ему обо всем отписать13.
В деле украшения и укрепления столицы с помощью иноземных мастеров Василий III усердно продолжал начатое его отцом. Так, по его приказанию, известный уже мастер Алевиз Фрязин обложил кирпичом и камнем ров, шедший вокруг городской стены, и привел в лучший порядок прилегавшие пруды. Около того же времени была окончена постройка кирпичного великокняжеского двора, смежных с ним Архангельского и Благовещенского соборов. Последний покрыт позолоченной кровлей и внутри расписан иконами на золотом поле (1508 г.). Тогда же мастер Бон Фрязин окончил церковь Иоанна «под колоколами» (где Ивановская колокольня). Вероятно, для этой колокольни, в конце Васильева царствования, мастер Николай Немчин слил колокол «большой благовестник» в тысячу пудов; но помещен он был на особой «деревянной колокольнице». Вновь перестроен каменный придворный храм Спаса Преображения. Кроме того, при Василии воздвигнуто в Москве более десяти каменных церквей (Введенская на Большом посаде или в Китай-городе, Рождественская за Неглинной, Благовещенская на Ваганьковском, Алексеевская в Девичьем монастыре за Черторыей и пр.), и все они построены тем же архитектором Алевизом Фрязиным. Тот же Алевиз, по-видимому, был и пушечным мастером. Летопись сообщает, что на Алевизовом дворе, где приготовляли пушечное зелье (порох), на Успенском враге, однажды произошел пожар, причем погибло более 200 рабочих (1531 г.). Великий князь строит каменные храмы в подгорных своих селах, например в Воронцове – Благовещения, а в Коломенском – Вознесения. При Василии же основан под Москвой известный Новодевичий монастырь. Укрепляя столицу, Василий заботился и о других важных пунктах, особенно оборонявших крепости в Туле, Коломне, Зарайске, Нижнем (в последнем строит Петр Фрязин), а деревянные в Чернигове, Кашире и прочих.
Меж тем как каменное храмовое зодчество находилось пока в руках иноземцев, внутреннее храмовое украшение или иконопись продолжала развиваться как художество вполне русское. При Василии было окончено фресковое расписание знаменитого Успенского собора. А помянутое выше расписание Благовещенского было совершено мастером Феодосием Денисьевым с братией (кажется, сыном Дионисия, известного иконника времен Ивана III). Очищенные недавно от позднейших наслоений, фрески этого собора свидетельствуют о значительном процветании иконописного искусства в то время. Любопытны, между прочим, известия летописей о поновлении некоторых наиболее чтимых икон стараниями митрополита Варлаама, который сам не был чужд иконописному художеству. Во-первых, по его совету и благословению, государь разрешил поновить знаменитый образ Владимирской Божьей Матери и велел устроить для него новый киот, украшенный золотом и серебром (1514 г.). Затем великий князь велел принести из Владимира древние иконы Спаса и Богородицы, от времен обветшавшие. Митрополит с духовенством и народом встретил их на Посаде и с молебствием проводил в Успенский собор. (Государь тогда отсутствовал в Москве.) Потом Варлаам велел поставить их в своих палатах и поновлять, причем помогал иконникам собственными руками (1518 г.). Для сих икон также устроили новые драгоценные ризы, пелены и киоты. В следующем году св. иконы были отпущены обратно во Владимир с такой же торжественностью, как и встречены. Государь с боярами сам проводил их за Андроников монастырь.
При Василии встречаем в столице начало полицейских порядков. Так, ночью, после урочного часа, воспрещалось без особой нужды ходить по известным улицам, для чего они заграждались рогатками, при которых стояла стража. Подобная же картина была принята и в Новгороде Великом (в 1531 г.) вследствие пожаров, сопровождавшихся сильными грабежами. Когда там по всему городу поставили решетки и учредили пожарную стражу, то эта мера много способствовала водворению спокойствия и прекращению грабежей. Василий подтвердил запрещение отца относительно пьянства и вольной продажи меда, пива и вина; но так как запрещение это не распространялось на великокняжеских телохранителей, то он выстроил для них за рекой особую часть города, которая названа Наливки (от слова «наливай». Так объясняет это название Герберштейн)14.
Большие успехи сделало при Василии III развитие московского придворного строя, то есть умножение чинов, должностей и обрядности; в чем, кроме установившегося единодержавия и самодержавия, немалую долю влияния имели византийские предания, подкрепленные матерью великого князя и приехавшими с ней греками. Встречаем некоторые придворные звания, о которых прежде не упоминалось, например стряпчих, ведавших царскую одежду, рынд или нарядных телохранителей, крайних, оружничих, ясельничих (ведавших конский прибор), постельников, шатерников и прочих. Своеобразная роскошь и строгая обрядность московского двора в ту эпоху стали обращать на себя внимание иноземцев, в особенности западноевропейских послов, которым приходилось близко наблюдать и на самих себе испытывать наши придворные порядки и обычаи. Любопытное описание некоторых таковых обычаев находим в сочинении о Московском государстве известного германского посла Герберштейна, дважды посетившего наше отечество.
Навстречу послу перед его первым прибытием в Москву выехал знатный боярин. Последний при сем строго соблюдал достоинство своего государя и, например, не выходил первый из саней или не слезал с лошади, а ждал, пока это сделает прибывший посол. Герберштейн, заметив, какую цену москвитяне придают всем подробностям встречи, также захотел поддержать достоинство своего государя, начал спорить и потом прибег к хитрости: он вынул ногу из стремени, делая вид, что слезает с лошади. Боярин тотчас сошел на землю, но тут с досадой заметил обман противника. Скрыв досаду, он подошел с непокрытой головой и от имени своего государя спросил посла, подобру ли поздорову приехал, произнеся предварительно полный царский титул (великий государь Василий, Божьей милостью государь всея Руси и великий князь Владимирский, Московский, Новгородский, Псковский, Смоленский и пр.).
Во время второго приезда барона Герберштейна он, как известно, имел товарищем своим графа Леонара Нугароля. За полмили от Москвы их встретил старый дьяк, ездивший с посольством в Испанию, объявил, что для почетного приема им назначены от государя большие люди, и предупредил, что при свидании с ним надобно сойти с лошадей и стоя слушать государевы слова. Старик был покрыт потом и казался в больших хлопотах; на вопрос Герберштейна о причине сего он отвечал: «Сигизмунд, у нас государю служат иначе, чем у вас». В Москве барон и граф получали содержание, назначенное для германских послов (для литовских и других определялось оно в ином размере); им и их свите ежедневно доставлялись пища и напитки; последние состояли из разных сортов меда и пива. Когда назначен был день торжественного приема, за послами явилось несколько важнейших сановников в сопровождении большой свиты из дворян. По тем улицам, где проезжали послы, стояли толпы народа, которые становились гуще по мере приближения к Кремлю, так что за теснотой поезд едва пробрался в кремлевские ворота. Дело в том, что по распоряжению правительства в такой день народ сгоняли сюда со всех сторон, запирались лавки и мастерские, чтоб удивить иностранцев своим многолюдством, а следовательно, и могуществом. Посольство прошло посреди воинов, туземных и наемных, наполнявших Кремлевскую площадь, и должно было сойти с коней, еще не доезжая до дворцовой лестницы, ибо сходить с лошади подле нее мог только один великий князь. На лестнице и в первых комнатах дворца послов встречали бояре, чем далее, тем более знатные; они подавали правую руку и здоровались. В приемном покое находился великий князь с братьями и думными боярами. Он сидел с открытой головой на возвышении подле стены, на которой висел образ в богатом окладе; справа на скамье лежала меховая шапка или колпак, а слева посох с крестом и таз с двумя рукомойниками и положенным на них полотенцем (для омовения руки после прикосновения к иноверцам). После установленных приветствий послов посадили на скамью против великого князя; при посредстве толмача они сказали свою речь. Государь вставал и спрашивал: «Брат наш, Карл, избранный император Римский и наивысший король, здоров ли?» Граф Нугароль ответил: «Здоров». Тот же вопрос повторился о Фердинанде, на что отвечал Герберштейн. Потом Василий давал руку послам и спрашивал об их собственном здоровье.
По окончании сей аудиенции государь пригласил послов к своему столу. Когда их ввели в обеденную залу, великий князь и бояре уже сидели за столами, которые были расставлены вокруг залы; посредине находился поставец, обремененный золотыми и серебряными чашами и кубками. Государь сидел за особым столом, ближе к нему помещались его братья, за ними следовали бояре и другие придворные люди, по степени своей знатности и милости государевой. Послов посадили также за особым столом, насупротив великого князя. На столах были расставлены солонки, уксусницы и перечницы. Перед началом обеда великий князь, если хотел оказать кому почет, посылал хлеб, а еще высший почет означала посылка от него соли. Во время обеда он посылал со своего стола некоторым лицам, в том числе послам, блюда с кушаньями, причем надобно было каждый раз вставать и кланяться на все стороны, что немало утомляло послов. За обедом первым блюдом в мясоед подавались жареные лебеди и журавли. Приправой к кушаньям служили сметана, соленые огурцы и моченые груши, которые не снимались со стола во время обеда. В начале обеда пили водку, а потом подавали мальвазию, греческое вино и разные меды. Государь пил за здоровье послов и, так же как кушанья, посылал от себя напитки. Кубки и вообще посуда, которую здесь видели послы, казались сделанными из дорогих металлов и даже из чистого золота. Служители, разносившие кушанья и напитки, одеты были в нарядные кафтаны или так называемые «терлики», украшенные жемчугом и дорогими камнями; а прежде (до Василия) они одевались проще, наподобие церковных прислужников. Обед продолжался несколько часов. По окончании его, однако, не окончилась попойка. Те же чины, которые провели послов во дворец, проводили их домой и тут принялись снова угощать их напитками, стараясь напоить допьяна. В этом отношении, по замечанию иноземцев, русские были большие мастера: когда истощены все другие способы убеждения, то они начинают пить здоровье великого князя, его брата и других почетных лиц, полагая, что при их имени никто не может отказаться от чаши. При сем приглашающий пить чье-либо здоровье выходит на середину комнаты с чашей в руке и говорит веселую речь с разными ему пожеланиями; опорожнив чашу, перевертывает ее и касается своей макушки, чтобы все видели, что он выпил до дна. Затем точно таким же образом должен каждый опорожнить чашу. Единственное средство избавиться от дальнейших тостов – это притвориться сильно пьяным или заснувшим.
Послы приглашены были также на великокняжью заячью охоту, которая производилась близ Москвы на одной покрытой кустарниками заповедной поляне, где в изобилии водились зайцы. Кроме того, сюда заранее приносили много зайцев из других мест и во время охоты по мере надобности выпускали их из мешков. Великий князь сидел на богато убранном аргамаке (как москвитяне называли коней турецкой породы); голова князя была покрыта колпаком с поднятыми на лбу и на затылке козырьками, на которых качались золотые пластинки наподобие перьев; на нем был род терлика, вышитого золотом; на поясе висели спереди кинжал и два ножа, а назади украшенная золотом палица с привешенным к ней на ремне медным или железным куском – оружие, употребляемое москвитянами на войне (кистень?). С правого боку у него ехал пользовавшийся особым почетом бывший казанский царь Шиг-Али с колчаном и налучником за плечами, а с левого – два молодых князя, из которых один держал секиру или топор с рукоятью из слоновой кости, другой булаву, называемую «шестопером». Число всех всадников простиралось до 300. Когда прибыли на место и началась охота, то все, не исключая и великого князя и знатных лиц, начали сами спускать каждый свою собаку; первому позволено было спустить ее Шиг-Али, а затем и всем другим охотникам. В этот раз было затравлено до трехсот зайцев. По окончании охоты великий князь со своей свитой и послами отправился к какой-то деревянной башне, подле которой были приготовлены шатры; он расположился в самом просторном из них и тут угощал всех охотников разными вареньями и печеньями, а также миндалем, орехами, сахаром и напитками. В иной раз великий князь охотился с кречетами или большими соколами на лебедей, журавлей и тому подобных птиц. Кроме того, он забавлялся иногда борьбой людей с медведями, которых содержал в особом устроенном для них дворе. Борцы (обыкновенно простолюдины) выходят против них, вооруженные деревянными вилами (рогатиной?). Получивших при сем раны государь приказывает лечить и, кроме того, награждает их платьем и хлебом. Герберштейн, между прочим, видел торжественное богослужение в Успенском соборе в самый день Успения, 15 августа, и говорит, что великий князь стоял у стены, с правой стороны у боковой двери; он опирался на посох и в одной руке держал свой колпак; его бояре стояли у колонн храма15.